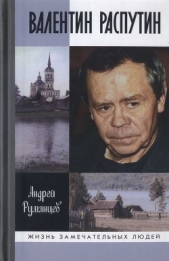Повести и рассказы
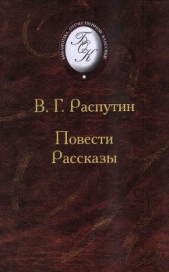
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старуха не слышала его.
— Дак он пошто так сделал-то? — прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии. — Он пошто так сделал-то? — спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал. — Ты пошто так сделал-то, Михаил?
— Пошто, пошто… Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.
— Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то? — Старуха закашлялась, обида перехватила ей горло. — Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне чё-нить сказала. Я ей матерь родная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне ничё от ее не надо, никаких подарков, ничё — только узнать ее, поглядеть под конец, какая она тепери стала. — Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон. — А ты чё натворил? Ты у меня последнюю радость отнял, последний свет загородил. Ты меня перед смертью без Таньчоры оставил. Не пожалел. Не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела.
— В самом деле, какое ты, Михаил, имел право, не посоветовавшись с нами, брать все на себя? — Казалось, Люся уже не спрашивала, а допрашивала, и Михаил сжался. — Ты ведь как будто тогда еще был трезвый — значит, должен был понимать, что делаешь.
— Прямо ни стыда, ни совести у человека! — подхватила Варвара.
Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.
— Он ить нарочно это сделал, — медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. — Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да досадю, не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной.
— Не собирай ты, мать, всякую ерунду. Зачем бы я стал нарочно это делать — что ты выдумываешь?!
— Нарочно, нарочно. — Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее. — Ты думаешь, я молчать буду? Не буду — мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему поперек горла стою. Чё с меня взять? А подавать мне надо — от он и злится, всяки фокусы надо мной строит.
— Опомнись, мать, что ты городишь?! — Михаил сделал шаг к старухиной кровати и остановился, потому что Варвара крикнула:
— Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить.
— Городишь, говоришь? — с вызовом сказала старуха и помолчала, как бы заманивая Михаила спорить. Он, покачиваясь, стоял теперь посреди комнаты. — А не помнишь, как ты напужал меня?
— Ничего я не помню.
— Пришел от так же пьяный: «Лежишь, мать?» — «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что у нас теперь только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» — «Как не полагается? — всегда, покуль смерть не придет, жили, никто не прогонял». — «Жили, — говорит, — а тепери нельзя, я сам в газетке читал».
— Это средняя продолжительность жизни у нас в стране, — догадалась Люся. — Это он, наверное, о ней говорил.
— Как это?
— Ну как… Каждый живет, мама, сколько может. Один больше, другой меньше, а когда подсчитали, оказалось, что человек в нашей стране живет в среднем семьдесят лет. Вот ты, например, проживешь девяносто…
— Не надо мне твои девяносто — куда мне их?
— Я к примеру говорю. Ты проживешь девяносто, а кто-то другой только пятьдесят. Это и будет у вас на двоих по семьдесят. А у нас сейчас на всю страну в среднем приходится по семьдесят. Ты понимаешь меня?
— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она говорит: «Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась — чё там говореть. Сидим с ей и трясемся. Я говорю: «У тебя ноги ходят, ты сходи к Егорше, он в эти газетки тоже смотрит, моить, слыхал». Она пошла. Дак от Егорши рази чё путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине черного мыла нету?» — «Однако правда нету». — «От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем». Она говорит: «Ты, Егорша, надо мной зубы не мой, я не твоя Наталья, я терпеть не буду». Он ее ишо боле напужал. «Не веришь, — говорит, — не верь, вскорости сама увидишь. От в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на этих днях сюда приедут». Ну. Это ить подумать надо. Тоже похвалить нельзя — я бы пошто правду не сказала? Мы с Миронихой — две старухи — то ли живые, то ли мертвые, она уж и домой не идет. Кому охота на удавке болтаться? Мы ить крещеные, у нас бог есть.
— Ишь, чё творят, ишь чё творят! — всплеснула руками Варвара и всхлипнула: — Над матушкой нашей так издеваться — это чё ж такое на белом свете творится?
— Когда я тебе, мать, так говорил? — Михаил качнулся и вытер ладонью потное лицо. Он едва держался на ногах, даже со стороны видно было, что его мутит. Вся тошнота от вчерашней и сегодняшней водки подступила к горлу, и он судорожно сглатывал, пытаясь протолкнуть ее вниз. Сгорбившись, он переступал с ноги на ногу и уже не помнил, сам ли он поднялся из-за стола, за который можно было держаться, или его вывели сюда, на середину комнаты, силой. Мать, как привидение, то качалась перед его глазами, то вдруг пропадала, он никогда не видел старуху с распущенными волосами и боялся ее, но стоило ему перевести глаза на кого-нибудь из сестер, как комната, входя в свои пазы, испуганно замирала, и мать послушно опускалась на кровать, но потом снова куда-то исчезала, поднималась в воздух, а комната, поскрипывая в углах, начинала кружиться. Но то, что рассказала старуха, казалось, удивило его, и он, поглядев перед тем на Варвару и остановив кружение, спросил: — Когда я тебе, мать, так говорил?
— Он и не помнит. Ничё не помнит. Сказал и забыл. Ну. А я с ума сходи.
— Правда, не помню.
— Что это такое, Михаил? — Люся начала почти ласково, вкрадчиво и вдруг сразу подняла голос: — Что это такое! — я спрашиваю. Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже, как называть то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство, самое настоящее самодурство! Даже хуже. Кто тебе дал право так издеваться над ней?! Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что — защитить некому? Один он у тебя? А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно.
— Слушай, матушка, слушай, — теребила старуху Варвара. — Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он чё думает — на него управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется. Не на таких находилась.
— В конце концов, можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо — обойдемся.
— А что?! — Михаил вдруг вскипел. — А что — может, кто-нибудь из вас заберет ее к себе?! Мать нашу — может, кто-нибудь заберет ее, а? Давайте. Забирайте. Корову отдам тому, кто заберет. Ну? — Он протянул руку, показывая на старуху, и зло, едко засмеялся. — Что же вы? Корову отдаю. Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте. Что вы раздумываете? Я негодяй, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? — Он повернулся к Люсе. — Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать? Ты будешь за ней ходить? А корову продашь — деньги будут. Матери много не надо — видишь, она почти не ест. Ей коровы выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая, все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил, — что ты стоишь?!
— Ты с ума сошел! — задохнулась Люся. — Ты сумасшедший!
Откуда-то вывернулась Надя и бросилась к Михаилу: