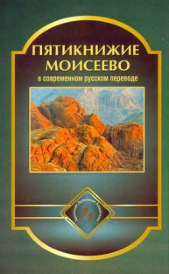Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Только дома дед не пел никогда, ибо испытывал уважение к его хозяйке, особенно, когда они оставались с глазу на глаз. В такие напряженные моменты он терялся, иными словами, этот иначе храбрый человек панически боялся своей жены. И это чистая правда.
До Большой войны, а те времена я помню смутно, в трактирах висела обязательная надпись «Пение запрещено!», но люди так привыкли к этому запрету, что вообще не обращали на него внимания. Да и власти не следили за его выполнением с надлежащей строгостью, ибо нередко и их представители в лице местного сборщика податей или полицейского осведомителя включались в ритуальные песнопения, особенно когда дело доходило до исполнения в два голоса «О, помните ли вы, сударыня…» Позднее, в послевоенные годы, у властей были другие заботы, и они опять-таки не вмешивались в эту спонтанную самодеятельность народных масс, стараясь лишь направить ее в революционное русло и внедрить в полуночное песенное творчество пару-тройку рвущих душу русских романсов. Они, власти, хорошо сознавали, что в определенный ночной час, по достижении нужного эмоционального градуса, люди нуждаются в этом ритуале с ностальгическими финальными терциями. Это как анисовая водка, которую обязательно нужно немного разбавить водой, но не любой, а только родниковой, вливая ее в шкалик тоненькой струйкой, отчего анисовка начинает слоиться и обволакивает все пространство, словно волшебное обворожительное белое облачко, проникающее затем в кровь, а оттуда — в душу.
Анисовая водка, анисовка, была преимущественно турецким и еврейским напитком, в то время как болгарский этнос тяготел больше к красному вину, а армянское и цыганское меньшинство пило, что попало. Я использую понятие «меньшинство» весьма условно и вразрез с Конституцией, потому что любая из пестрых этнических составляющих квартала Среднее Кладбище, взятая в отдельности, в том числе, и болгары, — были меньшинствами, но в субботу вечером, в трактире, что напротив старой турецкой бани, превращались в единое и могучее народное большинство. Исключаю только албанцев, которые строго придерживались традиций ислама, и я вообще не помню в квартале пьяных албанцев. Это могло быть следствием не столько запретов Корана, сколько албанского этнического изоляционизма, когда жизнь протекает втайне от соседей. Думаю, что это было именно так, хотя не смею утверждать.
В особых случаях, когда, например, Гуляке удавалось договориться о замене цинковых водосточных труб в здании мэрии и получить соответствующий задаток, в формировании анисово-винного марева самое деятельное участие принимал и цыганский оркестр Мануша Алиева.
Его также знали и как Мануша-Кларнетиста, что было не совсем точно, потому что он играл, как бог, на всех инструментах, не только на кларнете, и для него не было недоступной области в музыке, в том числе классической. Например, «Маленькую ночную серенаду» Моцарта он щедро сдабривал непостижимыми цыганскими тремоло, пиццикато и глиссандо, превращая ее в Большую полночную музыку.
Мануш был настоящим талантом, яростным и великим. В моменты наивысшего вдохновения в его глазах отражались отблески таборных костров и гривы несущихся вскачь коней, а бушующие в крови демоны зажигали в его душе сияние звезд, подобно карловской ракии тройной выдержки.
Сейчас, столько лет спустя, я порой задаюсь вопросом, уж не прятал ли тот далекий смуглый потомок сикхов в своих заплатанных сапогах копыта, а в буйных вороных кудрях рожки? Таков был Мануш Алиев из табора у Марицы. Как я уже говорил, ему были подвластны все инструменты, и если никто не видел его играющим на рояле, то вовсе не потому, что он не мог освоить и этот помпезный атрибут престижных оркестров, а просто потому, что его ослику было бы трудно перевозить сей инструмент на тележке из трактира в трактир в квартале Среднее Кладбище.
Мой Гуляка был душой и одним из главных жрецов этих паломнических походов по святым местам, озабоченный лишь тем, чтобы их ритм не нарушался и маршрут равномерно пролегал по территории болгарской, турецкой и еврейской общин, не обходя и цыган, да и всех остальных тоже, даже армян на вершине Треххолмия.
Армяне были беженцами, покинувшими свою страну после страшной резни в Эрзеруме, когда Арарат поседел от горя, а форель в озере Ван заплакала кровавыми слезами. Тогда Пловдив первым приютил уцелевших, предоставив им кров, хлеб и вино. Они жили наверху, у скал, там построили и свою церковь, чтобы она держала на своем христианском кресте небо, когда оно набрякнет облаками и грозно нависнет над городом, угрожая его раздавить. Ибо армяне — благодарные люди, говаривал мой дед, они никогда не забывают сделанное им добро.
Так вот, дед, когда было нужно, бегал то вверх, то вниз — от армянских трактиров к болгарским, а затем забегал в турецкие, цыганские и еврейские, хотя это было, как я уже подчеркивал, условное разделение, поскольку во всех этих трактирах люди разных национальностей объединялись во имя достижения красивой цели, подобно тому, как воды горных ручьев сливаются и смешиваются воедино в устремившейся к морю Марице.
А человеческая жизнь, как уже давно установлено, удивительно коротка, и человеку нелегко достигнуть всех намеченных целей. На мои вопросы, исполненные детской любознательности, как ему удается успевать повсюду, что так затрудняло мои поиски, дед самым серьезным образом заявлял, что владеет некоторыми тайнами Каббалы, которыми не имеет права поделиться даже со мной. Якобы он мог при желании написать пальцем, смоченным в ракии, на трактирной столешнице такой магический знак, от которого вспыхивал зеленый огонь, и мой дед в мгновение ока переносился в другое место. Вероятно, этой его особенностью и объясняется загадка, как могли некоторые местные жители, по их словам, видеть деда Гуляку одновременно в трех питейных заведениях. Даже Мануш Алиев клялся памятью своей матери, что как-то раз оставил деда мертвецки пьяным в нижней корчме у Деревянного моста, а застал его свеженьким, как утренний огурчик, в следующей корчме, высоко наверху, у армян. Так ли это было, не знаю. В школе мы изучали элементарные законы, согласно которым ни одно физическое тело не может в одно и то же время находиться в двух разных местах, но нарушение законов всегда было одной из характерных особенностей, можно сказать, стихией и страстью этого легендарного квартала.
Помнится, как-то раз мы с Гулякой сидели напротив друг друга под виноградной лозой во дворе трактира — как взрослый с взрослым. К тому времени он уже закрыл свою жестяную мастерскую, а я, только что исполнив свою ежедневную обязанность посла по особым поручениям, пил честно заработанный лимонад. Пил прямо из бутылки миниатюрными глоточками, чтобы растянуть удовольствие, а дед, в ожидании, когда все полки соберутся под знамена, потягивал анисовку, закусывая запеченным по-еврейски утиным яйцом, разрезанным на четыре части и обильно посыпанным черным перцем.
Наступал тот великий торжественный час длинных теней, называемый в наших балканских краях «ракийной порой». Небо со стороны Царского острова потихоньку наливалось пурпуром — наше раскаленное фракийское небо — и надвигавшимся сумеркам все никак не удавалось одолеть дневной зной. Кто никогда не был в Пловдиве в июле, тот не знает, что такое неумолимая жара и безветрие. Когда куры в изнеможении опускают крылья и сидят с разинутым клювом, собаки, высунув язык до земли, спасаются под чернильными тенями тутовых деревьев, а пот, стекающий по людским спинам, рисует на одежде географические карты неведомых рифов с прибрежной соленой каймой. В такой час лягушки Марицы умолкают, погрузившись в дремоту плесов, и в наступившей тишине слышно лишь жужжание крупных мух, обозленных, как сборщики податей, на всех и вся.
Так вот, в этот предвечерний час мимо нас прошествовал местный фотограф господин Костас Пападопулос. На плече у него покоился штатив с огромной деревянной камерой. В отличие от деда, наспех смывшего следы своей черной работы с жестью, Костаки, как его все называли, был одет прилично, можно даже сказать, с претензией на элегантность, хотя его темное довоенное пальтишко порядком поизносилось. Смазанные оливковым маслом волосы были расчесаны на прямой пробор, а на старательно выглаженной рубашке со следами застарелых кофейных пятен алел неизменный галстук-бабочка.