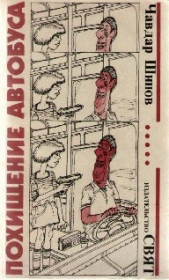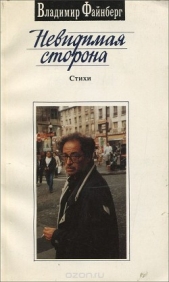Здесь и теперь

Здесь и теперь читать книгу онлайн
Автор определил трилогию как «опыт овладения сверхчувственным восприятием мира». И именно этот опыт стал для В. Файнберга дверцей в мир Библии, Евангелия – в мир Духа. Великолепная, поистине классическая проза, увлекательные художественные произведения. Эзотерика? Христианство? Художественная литература? Творчество Файнберга нельзя втиснуть в стандартные рамки книжных рубрик, потому что в нем объединены три мира. Как, впрочем, и в жизни...
Действие первой книги трилогии происходит во время, когда мы только начинали узнавать, что такое парапсихология, биоцелительство, ясновидение.
"Здесь и теперь" имеет удивительную судьбу. Книга создавалась в течение 7 лет на документальной основе и была переправлена на Запад по воле отца Александра Меня. В одном из литературных конкурсов (Лондон) рукопись заняла 1-е место. И опять вернулась в Россию, чтобы обрести новую жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Семена в опытной чашечке дружно проклюнулись через трое суток. В контрольной — лишь на пятые, и то не все.
А кринум вдруг не по сезону стал выпускать цветочную стрелку с бутонами.
Я окончил Литературный институт. Представил в качестве диплома рукопись поэмы.
Там было все: и фотография отца с рукой дяди Феди на плече, и Ленин, который, выйдя из Мавзолея, неузнанный, бродит среди прохожих по теперешним улицам, и моя беседа со Сталиным.
Удалось даже напечатать отрывок. Впрочем, не самый главный — оду свободному человеку. На первый в жизни гонорар покупаю себе галстук — синий с широкой красной полосой наискось, а маме — антикварную чашку в комиссионке на Арбате.
Вдруг перед самой защитой мне мой диплом заворачивают, запрещают. Оказывается, поэму отдавали на рецензию Сергею Городецкому.
«Дипломная работа студента пятого курса Артура Крамера не выдерживает никакой критики. Способный, даже талантливый автор, он сам ярко показывает идейную неразбериху, царящую у него в голове. Лозунг Горького «Человек — это звучит гордо!», актуальный в дни русской революции, он, видимо, считает актуальным и теперь — в эпоху развитого социализма. Таков подтекст каждой его строки, таков пафос, определивший неудачу поэмы. Между тем лозунг этот давно устарел…» — напечатанные на машинке строчки прыгают перед глазами.
— Очередной скандал с тобой, Крамер, — говорит только что вернувшийся из Парижа мой творческий руководитель. — Собирай до кучи отдельные стихотворения, придумай название. Будешь защищаться книгой стихов. И — не мудри. А то не успел я приехать, как уже за тебя влетело.
Он вынимает из бумажника цветное фото: на корме катера вьётся французский флаг. В катере мой лауреат, красивый, загорелый, в рубашке с короткими рукавами. Рядом с ним Витька Дранов, другие знакомые поэты — мои ровесники.
— Отбываем из Марселя на Корсику, на родину Наполеона, — поясняет руководитель семинара, вкладывая фотографию обратно. — А ты сидишь в дерьме. И будешь сидеть. Умный парень, неужели до сих пор ничего не понял?
— В каком это смысле?
— Не придуривайся! — Он прячет бумажник во внутренний карман пиджака, на лацкане которого уже не висит медаль лауреата Сталинской премии.
…Защитив диплом, пусть и без поэмы, рукописным сборником стихов, сразу же отношу экземпляр в издательство — авось что выйдет.
А диплом, оказывается, никому не нужен. Теперь уже и с ним не могу устроиться на постоянную работу.
Однажды, разговаривая с зам. редактора большой центральной газеты, где, я точно знаю, требуются сотрудники, есть вакантные места, в сердцах спрашиваю:
— Объясните наконец, в чём дело? Вот мой диплом, вот мои честные руки…
— Не нужны нам ваши руки! — И он брезгливо отодвигает от себя синенькую книжечку моего диплома.
«Хорошо, что всего этого не видела мама», — думаю я, выходя из здания, где помещается редакция.
Этот день особенно запомнился на всю жизнь тем, что, когда я возвращался домой, увидел: навстречу по лестнице, придерживаясь за перила, спускается очень пожилой человек, останавливает вопросом:
— Извините, ваша фамилия случайно не Крамер?
— Случайно Крамер.
— Господи, как вы похожи на свою поэму!
Оказалось, машинописная копия поэмы неведомым путём попала к нему, старому критику, имя которого гремело в двадцатые годы. И вот он отыскал адрес, пришёл, пьёт чай, заставляет читать стихи…
А вечером берет меня с собой в гости. Мы едем на Пресню и входим в квартиру, где живёт Александра Алексеевна — мать Маяковского.
Владимира Владимировича давно нет. Время невероятно стыкует его маму и меня.
Кажется, она не похожа на сына. Лишь за столом, приглядевшись, улавливаю сходство во взгляде, чуть оттопыренных ушах…
Александра Алексеевна угощает чаем, айвовым вареньем.
— С Кавказа прислали, — говорит она. — Ешьте. Володя любил.
А потом манит меня пальцем, заводит в маленькую комнату без окна. Включает настольную лампу.
— Когда Володя приходил, всегда приносил какой‑нибудь подарок. Вот эта скатерть от него, сберегла. Принесет подарок, расспросит что да как. Денег даст. А после войдёт вот сюда, в эту комнату, на этот самый стул сядет и просит: «Мама, дайте я один побуду». Посидит полчаса, час. Уж не знаю, о чём он здесь думал, затворясь. Никогда не поделится… Запамятовала, как вас зовут?
— Артур.
— Так вот, Артур, думается мне, старухе, и вам хорошо бы здесь побыть. Посидите. А я вас закрою и пока займу гостя беседой.
Глава двадцатая
— Кто здесь провожает в Соединенные Штаты женщину и ребёнка?
— Я.
— Возьмите! — Крашеная блондинка в строгой форме таможенного управления сунула мне из‑за барьера серебряные карманные часы с цепочкой. — Нельзя вывозить антиквариат.
Эти старинные часы с разноцветным фарфоровым циферблатом были их единственной фамильной ценностью…
— Галя! Ты слышишь меня?!
— Слышу, Артур, слышу! — донёсся откуда‑то удаляющийся, обесцвеченный от долгих слез Галин голос. — Пусть будут тебе на память, прощай!
— Прощайте, дядя Артур! — послышался голос Машеньки. Их уже не было видно за крутым поворотом стены.
— Они ваши! Я их буду хранить! Когда‑нибудь отдам!
Никто не отозвался.
Я отошёл от барьера, взглянул на свои, ручные, потом откинул крышку серебряных. Они шли. Шли точно, показывали московское время. Самолет должен был взлететь через тридцать пять минут. Навстречу другому времени, всему другому…
Вполне можно было уезжать отсюда, из Шереметьева. Но эти оставшиеся полчаса я все ходил взад–вперёд по гигантскому залу, поглядывая на выходные стойки. Будто могло случиться чудо, и Галя с Машенькой появятся оттуда. Знал, этого не произойдёт, не может произойти. Это было бы как возвращение с того света.
Когда же тридцать пять минут истекли и я вышел из здания аэропорта в серенький знобкий февральский денёк и направился к остановке автобуса, то почувствовал, что не иду, а плетусь.
В конце концов, Галя и Маша были совсем чужими людьми, всего лишь женой и дочерью соученика, и то, что Левка прислал им вызов из Соединенных Штатов, было вполне логичным. Но отчего же такая раздавленность, такое ощущение потери, вины?
Автобус–экспресс мчался по Ленинградскому шоссе. За стёклами мелькали вывески — «Булочная», «Молочная». Возле магазина «Фрукты—овощи» у громоздящихся ящиков и весов, за которыми торговал парень в напяленной на пальто белой куртке, мёрзла длинная очередь. В ушах всё звучало Галино «Прощай!».
Сегодняшним утром, когда я наконец нашёл время дозвониться Гале и узнал, что они через пять часов улетают, я сказал Анне, что не могу не поехать их проводить. Выбежал на улицу. Хотелось что‑то передать Левке, чтоб тот знал, что его помнят. Но что можно купить здесь, в Москве, чего бы не было в Нью–Йорке?
Все‑таки нашёл выход. Поскольку Левка был запойный курильщик, я, памятуя строку Грибоедова «И дым Отечества нам сладок и приятен», купил в табачном киоске у метро по три пачки «Казбека», «Беломора», «Столичных», «Астры», «Дымка», «Примы».
«Это не тяжело», — сказал я, передавая свёрток с куревом Гале. «Не тяжело», — кивнула она. Лицо было опухшее от слез. Зато Машенька, казалось, не понимала происходящего.
«А вы будете нам писать? — спросила девочка, уже в пальто подметавшая после вчерашних проводов комнату, где, кроме сумки, затянутой на «молнию», швейной машинки в футляре и чемодана, стояли две собранные и прислонённые к голым стенам раскладушки. Да ещё портновский манекен жутковато высился у окна. — Мама, ты совсем забыла, а папин подарок?!»
Оказалось, Левка месяц назад прислал посылку, в которой был отдельный пакет с авторучкой, записной книжкой и альбомом репродукций картин Ван Гога, самого любимого мною художника.
Пакет ждал на подоконнике. Чтоб не были заняты руки, я распихал подарки по карманам. Потом поднял швейную машинку и чемодан.