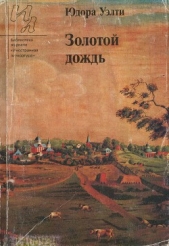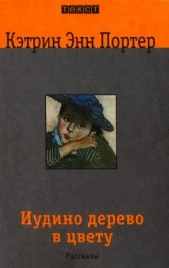Библиотека литературы США
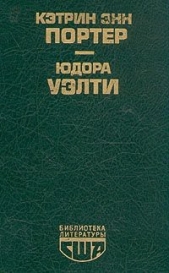
Библиотека литературы США читать книгу онлайн
В настоящем издании представлены повести и рассказы двух ведущих представительниц современной прозы США. Снискав мировую известность романом «Корабль дураков», Кэтрин Энн Портер предстает в однотомнике как незаурядный мастер малой прозы, сочетающий интерес к вечным темам жизни, смерти, свободы с умением проникать в потаенные глубины внутреннего мира персонажей. С малой прозой связаны главные творческие победы Юдоры Уэлти, виртуозного стилиста и ироничного наблюдателя человеческих драм, которыми так богата повседневность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чарльз сказал:
— У меня есть немного коньяку, может быть, вам стоит выпить?
— Видит бог, да! — сказал юнец, и у него помимо воли вырвался вздох.
Он беспокойно слонялся по комнате, держа растопыренную пятерню у лица, словно опасался, что у него оторвется голова — и тогда он будет начеку и успеет подхватить ее. Из-за светло-серой пижамы создавалось впечатление, что он вот-вот рассеется от желтоватого света ночника.
Чарльз — как был в толстом шерстяном халате и войлочных шлепанцах — вернулся с двумя стаканами и бутылкой коньяку. Пока Чарльз наливал ему, юнец так пожирал глазами коньяк, что, казалось, того и гляди выхватит стакан у Чарльза из рук, но он дождался, когда Чарльз протянул ему стакан, поднес краем к носу, понюхал, они чокнулись и выпили.
— Ух ты! — сказал юнец, он пил осторожно, наклонив голову вправо. Улыбнулся Чарльзу правым углом рта и благодарно просиял правым глазом. — Сразу легче стало! — И без всякого перехода добавил: — Ганс фон Горинг, к вашим услугам.
Чарльз назвал себя, юнец кивнул, и, пока Чарльз снова наполнял стаканы, они помолчали.
— Как вам нравится здесь, в Берлине? — вежливо осведомился Ганс, согревая коньяк ладонями.
— Пока нравится, — сказал Чарльз, — но я ведь еще толком не обосновался.
Чарльз следил за лицом Ганса: он боялся, что язык будет помехой их разговору. Но Ганс, похоже, вполне понимал его.
— Я обошел чуть не весь город, в каких только музеях и кафе не побывал, пока что, разумеется, только в самых известных. Великий город. И тем не менее берлинцы не гордятся им, хотя не исключено, что они просто скромничают.
— Знают, что Берлину далеко до других городов, — без обиняков выложил Ганс. — Я никак не могу понять, почему вы-то сюда приехали? Почему именно сюда — ничего лучше, что ли, не нашли? Вы же могли поехать куда угодно, верно я говорю?
— Пожалуй, — сказал Чарльз. — Да-да, разумеется, мог.
— Меня отец отправил сюда лечиться к своему старому другу, но через десять дней я вернусь в Гейдельберг. Поляк, он пианист, а у пианистов считается, что учиться можно только у старика Шварцкопфа, вот они и едут сюда. Что же касается герра Буссена — его комната дальше по коридору, — начнем с того, что он Platt Deutsch [11] и вдобавок еще и живет в Далмации, так что для него и Берлин хорош. Он считает, что получает здесь образование, и, наверное, так оно и есть. Но вы-то! Взять и по своей воле приехать в Берлин! — Он криво улыбнулся одним уголком рта и гадливо передернулся. — Значит, вы собираетесь пожить здесь?
— Еще три месяца, — сказал Чарльз без особого энтузиазма. — Сам не понимаю, почему я сюда приехал, если не считать того, что у меня был близкий друг — немец. Он ездил сюда с семьей, но это было давным-давно, так вот, он часто повторял: «Поезжай в Берлин». Мне всегда казалось, что здесь стоит побывать, ну а если ты мало что повидал, Берлин производит впечатление. Конечно, Нью-Йорк тоже неплох. Я пробыл там всего неделю, но мне он понравился, по-моему, я бы смог в нем жить.
— Да, конечно, Нью-Йорк, — без всякого интереса повторил Ганс, — но послушайте, а чем плохи Вена, Прага, Мюнхен, Будапешт, Ницца, Рим, Флоренция и, наконец, Париж, Париж, Париж! — Неожиданно Ганс чуть ли не развеселился. И, подражая немецкому актеру, подражающему французу, поцеловал кончики пальцев и, легонько перебирая ими, указал на запад.
— В Париж я поеду позже, — сказал Чарльз. — А вам случалось бывать в Париже?
— Нет, но я непременно туда поеду, — сказал Ганс. — У меня все распланировано. — И, видимо взбудораженный такой перспективой, вскочил, запахнул поплотнее халат, бережно потрогал щеку и снова опустился на кровать.
— Я хочу пожить там год, походить в какую-нибудь студию, заняться живописью. А вдруг вы нагрянете в Париж, покуда я там буду?
— Нет, мне еще год учиться в Гейдельберге, — сказал Ганс, — а после Гейдельберга придется провести хотя бы несколько месяцев у моего деда, он очень старый и дает мне деньги. Ну а потом я могу уехать и буду волен делать что хочу, по крайней мере года два.
— Как странно, что у вас все распределено наперед, — сказал Чарльз. — Я вот понятия не имею, где окажусь через два года. Не исключено, что мне что-нибудь помешает и я так и не попаду в Париж.
— Если не планировать все заранее, — рассудительно сказал Ганс, — это может завести бог знает куда. Не говоря уж о том, что моя семья обо всем договорилась. Я даже знаю, на какой девушке женюсь и какое у нее приданое. Отличная девушка, — без особого восторга сказал он. — Зато уж Париж — мой, уж там-то я погуляю на славу, там я буду сам себе хозяин.
— А я рад, что приехал сюда, — на полном серьезе продолжал Чарльз. — Все американцы, знаете ли, хотят когда-нибудь побывать в Европе. Им кажется, в ней есть нечто особенное. — Развалился на стуле, закинул ногу на ногу: с Гансом он чувствовал себя вольготно.
— В Европе и верно есть, но в Берлине — нет. Вы только теряете здесь время попусту. Поезжайте в Париж, если можете. — Ганс сбросил шлепанцы, юркнул в постель, взбил подушки и с предельной осторожностью опустил на них голову.
— Надеюсь, вам лучше, — сказал Чарльз. — Может быть, теперь вы заснете.
Ганс насупился, замкнулся в себе.
— А я вовсе не болен, — заявил он, — до вашего прихода я спал. Все идет своим чередом, такое случается сплошь и рядом.
— Что же, спокойной ночи, — сказал Чарльз, поднимаясь.
— Нет-нет, не уходите. — Ганс попытался было сесть, но передумал. — Я вам что скажу — постучите-ка в дверь Тадеушу, пусть он тоже встанет. Слишком много он спит. Его дверь рядом с моей. Не в службу, а в дружбу. Он будет рад.
Чарльз постучал — в ответ ни звука, но чуть погодя дверь, также без звука, отворилась. В темном дверном проеме возник худой высокий юноша, с вытянутой вперед, как у птицы, продолговатой головкой. В лиловом халате тонкого шелка, пожолклые руки с длинными сомкнутыми пальцами сложены одна поверх другой на груди. Вид у него был совсем не сонный, а небольшие темные, удивительно живые глаза добродушно улыбались.
— Что еще стряслось? — спросил он с английским акцентом, наслаивающимся на польский. — Наш окаянный дуэлянт опять не оставляет нам покоя?
— Не вполне так, — сказал Чарльз: он и рад был услышать английскую речь, и поразился самой речи, — но и утверждать, что он затих, тоже нельзя. Мы пили коньяк. Я Чарльз Аптон.
— Тадеуш Мей, — представился поляк и выскользнул в коридор, бесшумно притворив за собой дверь. Тихим голосом, почти шепотом, он непринужденно продолжил: — Я поляк, хотя моя фамилия и может ввести в заблуждение. Бабка неосмотрительно вышла замуж за австрийца. Остальные члены семьи — вот счастливчики! — носят фамилии типа Замойский.
Едва они вошли к Гансу, как Тадеуш тут же перешел на немецкий:
— Да-да, прелесть что за шрам будет. — Он склонился над Гансом, с видом знатока разглядывая рану. — Все идет как нельзя лучше.
— Останется навек, — сказал Ганс.
На его лице проступило совершенно ошарашившее Чарльза выражение. Лицо его менялось медленно, но основательно, как меняется освещение, хотя ни веки, ни один его мускул при этом не шелохнулись. Выражение это прорвалось изнутри, из тайного укрытия, служившего Гансу подлинным обиталищем; в нем мешались чванство и радость, непередаваемая суетность и самодовольство. Сам Ганс не двигался, двигателем, вытолкнувшим это выражение на поверхность, была его сокровенная натура. Чарльз подумал: «Его надо писать только так, иначе не передать сущности». Тадеуш вел разговор негромко, любезно, переходя с французского на немецкий. У Чарльза просто в голове не укладывалось, как можно так свободно говорить на разных языках. Он напряженно прислушивался, но Тадеуш, скупо жестикулируя рукой со стаканом, похоже, вел довольно бессодержательный разговор, хотя Ганс тоже слушал его внимательно.
Чарльз счел, что не обязан принимать участие в беседе, и попытался вообразить Ганса в Париже с этим его шрамом. Вообразить его в Америке, в захолустном городишке, вроде, скажем, Сан-Антонио, с этим его шрамом. Предположим, в Париже разберутся, что к чему, ну а как его воспримут в глуши Техаса, в Сан-Антонио? Подумают, что он ввязался в поножовщину, скорее всего с мексиканцем, или попал в автомобильную катастрофу. Подумают: экая жалость, такой видный парень и так изуродовался — из деликатности постараются не упоминать о шраме, будут отводить от него глаза. Да и в Париже, как представлялось Чарльзу, у тех, кто поймет, что это за шрам, он вызовет явное неодобрение. Ганс для них будет всего-навсего одним из тех немцев, которые норовят разбередить полученный на дуэли шрам, чтобы кривой, иссиня-багровый рубец остался навек. Тут до него дошло, что лишь в этой стране Ганс может чваниться и своим шрамом, и тем, как он его заработал. Только здесь его поймут, только здесь его шрам не сочтут несчастьем или позором. Прислушиваясь к неумолчной болтовне Тадеуша, Чарльз следил за Гансом, и мысль его ходила по кругу, безуспешно стараясь вырваться из него. Такой здесь обычай, только и всего. Так и надо к этому относиться, больше ничего не остается. Но у Чарльза в целом мире не было, нет и не будет друга, который, повстречай он Ганса, не спросил бы потом Чарльза с глазу на глаз: «Где этот парень заполучил такой шрам?» Если не считать Куно. Но Куно ни о чем подобном ему не рассказывал. Куно рассказывал, что на улице перед офицерами положено посторониться, иначе тебя столкнут с дороги, во время прогулок они с матерью всегда сходили на мостовую и пропускали офицеров. Куно это нисколько не возмущало: рослые офицеры в шинелях и шлемах скорее импонировали ему, а мать, та негодовала. Он слышал этот рассказ давным-давно, а вот помнил же; ни с чем подобным он в жизни не сталкивался, но рассказ отложился у него в памяти как неоспоримая истина, и неведомый ему отрезок жизни Куно, протекавший вдали, был для него более подлинным, чем жизнь, прожитая ими совместно.