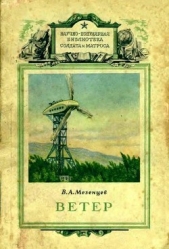Одесситы

Одесситы читать книгу онлайн
Они - ОДЕССИТЫ. Дети "жемчужины у моря", дети своей "мамы". Они - разные. Такие разные! Они - рефлексирующие интеллигенты и бунтари- гимназисты. Они - аристократы-дворяне и разудалый, лихой народ с Молдаванки и Пересыпи. Они - наконец, люди, вобравшие в себя самую скорбную и долготерпеливую культуру нашего мира. Они - одесситы 1905 года. И страшно знающим, что ждет их впереди. Потому что каждый из них - лишь искорка в пожаре российской истории двадцатого века. Снова и снова звучат древние горькие слова: "Плачьте не о тех, кто уходит, но о тех, кто остается, ибо ушедшие вкушают покой..."
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А где, браток, конь-то твой? — ласково спросил Якова круглолицый, с роскошным чубом из-под папахи, первого эскадрона боец Крыж.
— А разве надо? Меня без коня прислали… — удивился Яков, и все заржали: начиналась забава.
— Ты, положим, человек обозный, а все ж тут тебе кавалерия, а не хвост собачий. Без коня никак.
— Та нехай ему в обозе Гриню дадут!
Снова заржали все: Гриня был боевой козел, любимец бригады. Он и водку пить умел, когда подносили, и в атаку ходил: с диким меканьем и рогами наперевес, веселя бойцов.
Но Крыж гнул свое. Обозным коней не полагалось, и он это знал. Так объездить писаря, пока он до обоза не добрался!
— А ты вобче верхом могешь?
— Научусь, если надо, — понял Яков игру и вцепился в свой единственный шанс.
— Ото наш хлопец! Ото я понимаю! Да кончайте вы ржать, черти, он же научится! Дайте ж человеку коня, паскуды! Живчика ему приведите, шо на нем покойный Андриенко ездил!
«Покойный» Андриенко с широкой ухмылкой мигом вернулся с серым, белоногим Живчиком. Только безнадежный дурень мог поверить, что этот красавец, с лентами в насвежо расчесанной гриве, был бесхозный конь. Но писарь таким дурнем и казался. Впрочем, когда Живчик взметнул передними копытами, он попятился:
— У-у, какой!
Хлопцы — кто прилег, кто присел, чтоб мягче было падать от смеха, но на всех лицах была истовая серьезность. Часть развлечения Андриенко по недомыслию испортил: он привел Живчика уже седланным. Но и то было ничего. Живчик — коняка с норовом, и пошутить любит. На Живчика положиться можно.
— Ты поводья держи покрепше, а если что — плесни ими ему по холке, как следовает, — заботливо наставлял Крыж. Он даже поддержал писарю стремя, и тот нелепо, животом, вздернулся на Живчика: этакая носатая ворона, в кожаной куртке и высоких сапогах без шпор. Подрыгал ногой, поймал второе стремя.
— Которые тут поводья? Эти ремешочки? — уточнил он.
— Эти, эти. Держи, браток. Ото в эту руку этот бери, а тот — в другую. О, какой справный хлопец! Пущай!
Андриенко слегка подхлопнул Живчика по крупу: иди побалуй. Но Живчик недоуменно стал.
— А теперь что надо делать? — доверчиво спросил писарь, и все грохнули.
— Так я ж тебе говорил: по холке его поводьями, по холке!
Писарь так и сделал, и конь понес в галоп. Несчастный писарь, как мешок, откинулся на спину, но удержался, и по-дурному мотаясь, съерзывая то вправо, то влево, полетел, куда конь его нес — а Живчик нес к небольшому овражку. Хлопцы заранее знали, что на краешке он встанет как вкопанный, а седок вылетит через голову в ежевику, а оттуда — в ручеек, чтоб охладиться либо же шею свернуть. Если он, конечно, до этого овражка не сверзится. Смеялись радостно, по-детски.
Но первым перестал ржать сам Крыж. На ходу у писаря слетела фуражка, и он дернулся ее подхватить. А только она как-то вперед слетела. А только он ее таки ухватил, собака, и вкось, чтобы посмешнее, напялил на голову, повод перекинув в другую руку. И понял Крыж, что ездок этот с фокусами. Ваньку ездок валяет. А чтоб ваньку на Живчике валять — надо таки не просто уметь в седле держаться. И когда он на краю того овражка откинулся назад, не забыв для потехи задрыгать рукой, а другая рука круто повод натянула — понял Крыж, чья это оказалась потеха.
Яков подъехал к хлопцам и наивно спросил:
— А как с него слезать, товарищи?
И тут уж товарищи заржали снова — на этот раз его, Якова, шутке.
Не то чтобы Яков стал с этих пор в бригаде своим. Но наука Сергея Александровича от первых унижений его избавила. Спасибо покойнику. Яков держался за репутацию «писаря с фокусами», и некоторые его ошибки под фокусы и сходили. Одна, которую Яков быстро исправил, была манера говорить. Он почему-то считал, что с народом надо доходчиво, то есть — просто. Оказалось — ничего подобного. Кучеряво надо говорить. У того же Горбаля учиться.
— Дорогой наш товарищ лежит среди нашего присутствия холодный и бездыханный. Достала его горячее сердце пуля классового белогвардейского врага, золотопогонной сволочи, которую мы, товарищи, будем бить нещадно, несмотря на численное их превосхождение и бандитский кураж. Осиротели его престарелые родители в солнечной станице Криничной. Плачет конь его кровавыми слезьми, роет землю копытом и требует суровой революционной мести за убитого нашего отважного бойца Терентия Павличенко, — говорил Горбаль, и единым встреском звучал залп над могилой. Такие речи любили, и уважали тех, кто мог изъясняться с неожиданными зигзагами. Яков быстренько намотал на ус, что и непонятных слов избегать не следует: бойцы, как дети, впечатлялись загадочными выражениями.
Но ладить с бригадой и даже со своенравным Горбалем — было полдела. А надо было еще учиться революционной беспощадности. В теории это было хорошо и понятно. Практика Якову давалась с трудом. Ему и раненую лошадь пристрелить было трудно. А не надо думать, что писарь только бумагами занимается, да статьи в «Красный кавалерист» пишет. Не может быть узкой специализации в гражданскую войну. Отступаем — и обоз должен своих безнадежно раненых дострелить. Не оставить живыми врагу на поругание. Наступаем — и заняли местечко, или город: разберись, кто враг, а кто нет. ЧК потом со скрытым врагом возиться будет, а мы сразу все возможное сопротивление истребить должны. В Житомире Яков уберег от расстрела одного раввина только тем, что протащил его за бороду по улице, под хохот казаков, и свалил в навозную кучу. У раввина хватило ума там и остаться. Но Якову он успел взглянуть в глаза — и было в глазах этих проклятье, по-библейски непреложное: до седьмого колена.
Яков научился не отворачиваться, когда убивают и насилуют. Научился щеголять кровожадностью по мелочам: располовинить шашкой одуревшего поросенка на взятом хуторе, стрелять из маузера по витражным костельным стеклам, а главное — хвастать побольше, не стесняясь деталями. Воображение у него было хорошее, детали он мог присочинить убедительные. Иначе было нельзя, Яков понимал.
Но вместе с этим пониманием мучительно росло другое: так он не может. Никогда не сможет. Он не хочет, чтоб — так.
Новороссийск, последний оплот Деникина, брали весело: были уже и тяжелые орудия, и ударили раньше, чем предполагали белые. Не успевшие эвакуироваться на английские суда белогвардейцы в панике рвались к порту, и шла погоня по улицам. Уж теперь порадуемся! А почему бойцам не порадоваться, раз дошли до самого синего моря? Яков в этом не участвовал: не девятнадцатый год, нечего писарю делать в конном строю. Он въезжал с канцелярией штаба. Им отвели хорошее помещение: светлое, с высокими потолками. Тут у белых госпиталь был. Все, конечно, вдребезги — но прибрать можно.
Он нашел ее в пыльном садике, под госпитальной оградой с чугунными финтифлюшками. Их там двое лежало: с завернутыми подолами, с заголенными ногами. Лучше было не смотреть, Яков уже такое видел. Ребята позабавились прежде, чем кончить. У одной от лица осталась одна щека с голубым глазом. А лицо Марины обезображено не было. Не настолько то есть, чтоб Яков его не узнал. Как вышло, что белые не эвакуировали медсестер, сволочи? А как могла такая, как Марина, уйти на корабль, пока хоть один раненый офицер оставался в городе? Ему не пришлось закрывать ей глаза. Они уже были закрыты. Какие у нее длинные ресницы, Яков раньше не замечал, какие длинные.
И была Польша, и дошли до Вислы. Потом отступали. А Яков так и не привык. Не бил ему в голову хмель живой, теплой еще крови, а без этого хмеля был он не боец, а несчастье — и себе, и товарищам. Как трезвый на попойке.
На узенькой, не по-русски мощеной улочке лежала простоволосая женщина — то ли раненая, то ли убитая уже, и возле нее топтался карапуз, хныча, но боясь дотронуться. Он боится испачкать костюмчик, понял Яков. Мама не велела ему пачкать костюмчик. Они проехали мимо: с соседней улицы доносились еще выстрелы.
Он был ранен в колено неделю спустя. Не пулей, а обломком обозной телеги: попали под обстрел. Несерьезно, но достаточно для возвращения в тыл. Он усмехался: и пули на такого шлимазла судьба пожалела. Ему приводили в порядок ногу в Киевском госпитале для комсостава. Гнуться будет. Частично. Надо беречь. Что ж, отвоевался. Он член партии с шестнадцатого года, большевик с хорошей репутацией.