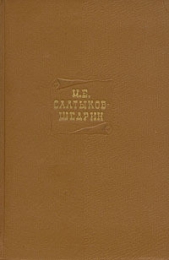Мелочи жизни
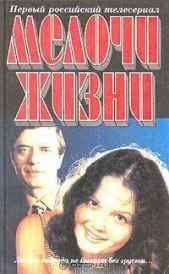
Мелочи жизни читать книгу онлайн
"Мелочи жизни" - современный городской роман о жизни так называемого среднего класса, преимущественно интеллигенции - учителей, инженеров, врачей, художников-модельеров и др.Роман хорош тем, что будни этих людей, полные забот, радостей, тревог, описаны увлекательно, за ними наблюдаешь неотрывно, с возрастающим интересом - он читается как напряженный психологический детектив, написанный живо, с грустной веселостью и сочувствием к действующим лицам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Наконец-то! — Гоша все еще держал в руках книгу и по-клоунски кланялся, откидывая далеко назад руки. — Все уставились на акулу капитализма, которая затесалась среди честных тружеников. Только, увы, братцы, я не банкир и не спекулянт, а простой трудяга бизнесмен, который вместе с трудягами фермерами и прочими частными собственниками пытается вытащить вас из болота. А вы...
— Ну давайте же деда слушать, он ведь о другом! — не выдержала Юля.
— Да, я о другом, не о материальном, — отозвался Анатолий Федорович. — В конце концов, к голоду, холоду и даже крови мы уже привыкли... Я сын репрессированного. Отца расстреляли, мать в ссылку, рос в детдоме. И что же: вырос нормальным советским человеком, гомо советикус, как сейчас говорят. В комсомол вступил с третьего раза, на стройке вкалывал, физкультурником был, «Марш энтузиастов» пел...
— А «Где так вольно дышит человек... » пели? — ехидно вставил Гоша.
— Пел, Гоша, пел... И между прочим, от души. Я этого не стыжусь, потому что моя это биография, и другой у меня не будет. Правда, по ночам в подушку по родителям плакал, но ведь они у меня были коммунистами и воспитали сына таким же энтузиастом, что и сами. Конечно, задумывался: а за что их? А других за что?
За столом воцарилась тишина. Гоша уже несколько раз бросал тревожные взгляды в сторону кухни, с тихим свистом втягивая носом воздух. Он уже давно бросил книгу и оставил надежду выйти из комнаты незамеченным. Нет, конечно, можно было выйти, может быть, сейчас никто ничего и не сказал бы, но потом придется вынести поток бесконечных упреков в черствости. Это он знал точно. И поэтому решил не рисковать.
— Ох Боже, сколько мы уже слышали этих исповедей, — нарушила молчание Маша. — Ну к чему липший раз мучить себя, Анатолий Федорович? Все ведь уже кончилось.
— Да, отец, ну к чему это? — обрадованно поддакнул Сергей, надеясь, что скоро все закончится. — Давай, знаешь...
— Нет, вы меня послушайте, — прервал Анатолий Федорович, — иначе не будет финала как у Агаты Кристи. Ага, испугались, любопытно все-таки, что там приберег старик на конец своей повести? А сыщик зачем здесь сидит? То-то.
— Сейчас он про войну начнет, — тихо простонал Гоша.
Анатолий Федорович негромко рассмеялся:
— Правильно, мальчик, угадал: про нее. Скучно, да? Но я тут коротко. Добровольцем пошел, был связистом, ранен, ну и так далее.
— А что же про ордена не говоришь, пап? — спросила Катя.
— Это которыми на Арбате торгуют? Нет, не буду. Главное, знал почему воюю, кто враг и за что умру, если не повезет. Нашим бы ребятам это сегодня знать...
— Мясо... — вяло сказал Гоша.
— Что-что? — не понял Анатолий Федорович.
— Ничего особенного. Просто, судя по всему, на кухне горит мясо.
Юля, вскрикнув, опрометью кинулась на кухню, откуда действительно начал доноситься запах гари. За ней побежала и Катя. Через секунду послышалась громкая возня, грохот сковороды.
— Ну вот, сейчас еще и сгорим все... вместе с мясом, орденами, воспоминаниями и прочей требухой. — В голосе Гоши чувствовалось торжество.
— Праздничный ужин отменяется, — грустно известила Юля, стоя на пороге комнаты. — К желающим отведать пустых салатов просьба поднять руки. Что, нет желающих? Баба с возу — коню легче.
Казалось, Анна Степановна, задумавшись, не обратила особого внимания на происшедшее. Она вздохнула и тихо заговорила:
— Иногда к нам в больницу привозят ребят из этих... «горячих точек». Мне один паренек раз и говорит: «В меня, бабушка, наш, русский, стрелял. За деньги, подлец, из меня инвалида сделал».
— Кстати, я с Аней, Анной Степановной, тоже в госпитале познакомился, — заулыбался Анатолий Федорович. — После войны, когда осколочек доставали. Она была, как сейчас, медсестрой. А ваш покорный слуга был студентом четвертого курса истфака областного пединститута, МОПИ сокращенно.
Зубков, воспользовавшись отсутствием Кати, смущавшей его не просто своим взглядом или словами, но даже и просто присутствием, достал неизвестно зачем блокнот и ручку, положил аккуратно на стол и вклинился в разговор:
— Вопрос по ходу дела можно, Анатолий Федорович? Папочки свои вы давно начали собирать?
— А-а... К делу перейти не терпится, Михаил Васильевич? Скоро дойдем, но сначала я про себя в конце пятидесятых — начале шестидесятых расскажу, потому что без них этих самых папочек не понять.
Гоша наклонился к Маше:
— Сейчас про Сталина начнет, спорим?
— Кузен, помолчи, — мягко улыбнулась она.
— Да, Сталин... — продолжил Анатолий Федорович. Гоша тихо прыснул. — Он для одной части моего поколения как крест, а для другой — до сих пор знамя. Хотя вообще-то и для них крест. Я иногда по ночам просыпаюсь и думаю, думаю: как же это могло случиться, что человек моего отца убил, мать в ссылке старухой сделал, а я все это знал и все равно ему верил и даже любил. Ей-богу, любил! — Он достал из кармана смятую бумажку. — Я это в день его смерти написал, между прочим в первый и последний раз в жизни в рифму. — Анатолий Федорович отнес бумажку подальше от глаз, прищурился. — «Умер Сталин, руке непослушно перо, кровью пишутся эти слова, а в залитых слезами глазах — лицо, дорогое лицо вождя. Кем он был нам: учителем, другом, отцом? Он был всем. Он как будто бы сам был сиянием жизни, ее творцом, идеалом всем честным сердцам. Помнишь, друг, его имя шептала тебе, над кроваткой склонившись, мать. Помнишь, имя его произнес твой отец перед тем, как ушел умирать. Шли года, ты учился, работал, любил твою родину, твой комсомол, ты... »
— Анатолий Федорович, миленький, ну не надо, — первой не выдержала Маша, зажимая ладонями уши. Гоша сотрясался в приступе бесшумного хохота.
— Хорошо, не надо. Скверные стихи, верно. — Он бережно спрятал бумажку в карман.
— А мне понравилось, — заступился Зубков. — Рифма, может, и так себе, а душа есть, и это самое главное. И про отца и мать — здорово. Я вот на митингах работаю, так там всякого про этого Сталина наслушался. Коммики — те все про порядок, а демроссы про лагеря. А что, разве не может быть порядка без лагерей? В Штатах может, в Люксембурге может, а у нас — нет?
— Мы все с вами согласны. — Маша уже устала и очень хотела домой.
— Вот Екатерина Анатольевна, по-моему, не согласна, — пробормотал Зубков.
— Я просто не понимаю, зачем ты... вы здесь. — Катя была вне себе: сначала это сгоревшее под ее чутким руководством мясо, а теперь — пытающийся заигрывать Зубков.
— Он пришел по моему приглашению, — в свою очередь заступился Анатолий Федорович. — И прошу моего гостя не обижать. А про Двадцатый съезд на митингах еще говорят Михаил Васильевич?
— Нет, забыли все давно.
— А я вот не забыл. Ведь он всю жизнь мою перевернул, Двадцатый. Я был рядовым членом партии: на фронте вступил. А после Двадцатого — я тогда уже в институте истории работал — мы все, кто помоложе, стали называть себя его детьми. Это время было самым счастливым в моей жизни. Аня, помнишь?
— А то нет. На крыльях тогда летал.
— Все летали. Ведь то, что произошло тогда со мной и с моими друзьями, было чудом! Мы себя вдруг... коммунистами почувствовали. Не рядовыми той сталинской гвардии, а мыслящими, умными, гуманными коммунистами. Евтушенку цитировали, Окуджаву пели.
Маша задумчиво продекламировала:
— «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...»
— Да-да, это была наша любимая, — подхватил Анатолий Федорович. — Такое настроение было. И не помню уже, у кого возникла эта идея: написать новую историю партии — объективную, честную, правдивую до мелочей. Чтобы ни одно, как говорится, достижение не пропало, — а я и сейчас считаю, что они были, — но и чтоб вся правда как на ладони. В общем, лозунг был такой: «ничего не охаивать, но и ничего не утаивать!»
Гоша только покачал головой, Сергей попытался скрыть улыбку. Анатолий Федорович встал, сделал несколько шагов, нервно потер руки:
— Но я же говорю, что мы в чудо верили. И пошли к начальству, и оно нас поддержало, хотя все было прежнее, сталинское. Но чего у них не отнимешь, так это то, что если был приказ верить в чудо, то они становились во фрунт и гаркали: «Есть!»