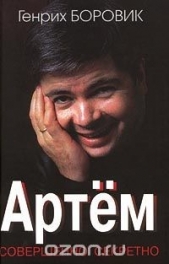а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда директора не оказывалось на месте, приходилось покупать билет в кассе рядом с запертой дверью его кабинета.
В один из таких разов я сел в ряду перед двумя своими одноклассницами – Таней и Ларисой.
Когда-то Таня мне нравилась больше, но показалась слишком недостижимой и я сосредоточился на Ларисе, после занятий старался догнать её по дороге, потому что она тоже ходила на Посёлок по Нежинской, но всегда вместе с Таней – они ведь соседки.
Когда Лариса была участницей Детского Сектора, я однажды проводил её по Профессийной до улицы Гоголя, потому что до своей – улицы Маруты – она не разрешила.
Таня тогда тоже участвовала в Детском Секторе и в тот вечер всё поторапливала Ларису шагать быстрее, но потом рассердилась и ушла вперёд.
Мы расстались на углу Гоголя и я пошёл по ней до Нежинской, восторженно вспоминая как мило смеялась Лариса на мой тупой трёп, но у выхода на Нежинскую, под фонарём возле обледенелой колонки, мои восторги оборвались.
Меня окликнули две контрастно чёрные на белом снегу фигуры. Обе принадлежали ученикам нашей, тринадцатой школы. Один из параллельного класса, а второй десятиклассник Колесников; они оба жили где-то на Маруте.
Колесников начал мне втолковывать, что если я ещё хоть раз подойду к Ларисе, и если он услышит, или ему скажут, и вообще – я понял чтó он мне сделает?
И эти толкования он повторял по кругу, немного меняя местами, а я вдруг почувствовал, как сзади что-то вдруг схватило меня за икру и треплет; я подумал, что это собака вцепилась и оглянулся, но там был только снежный сугроб и больше ничего.
В тот момент мне полностью дошёл смысл выражения «поджилки трясутся».
Я бормотал, что понял, он переспрашивал всё ли я понял, я говорил, что да, всё, но не смотрел им в лица, а думал, если б из нашей хаты сейчас подошёл за водой дядя Толик, бывший чемпион области по штанге в полусреднем весе.
Нет, не подошёл; в то утро я натаскал достаточно воды.
И вот теперь, при всём зрительном зале, я уселся перед парой своих одноклассниц, сознавая всё неосмотрительность такого поступка, но не в силах повести себя иначе.
Я обернулся к ним и что-то говорил в общем предсеансовом галдеже наполненного зала, но Лариса молчала, а отвечала только Таня, пока Лариса не обратилась ко мне:
– Не ходи за мной, а то ребята меня тобою дразнят.
Я не нашёлся что ответить, молча поднялся и по боковому проходу побрёл вдоль стены на выход, унося в груди осколки разбитого сердца.
А на подходе к последним рядам, моя чёрная печаль и вовсе обернулась мраком – в зале погас свет и начался фильм.
Я сел на свободное место с краю и перестал страдать: ведь это был «Винниту – вождь Аппачей»!
В хате номер девятнадцать по улице Нежинской старика Дузенко уже не было, на его площади проживали две старушки – вдова Дузенко и её сестра, переехавшая к ней из села.
И на половине Игната Пилюты осталась лишь Пилютиха. Она из хаты и носу не показывала и ставни выходящих на улицу окон порой неделями не открывались.
Наверное, она ходила всё же на Базар или в магазин, но мои с ней пути не пересекались.
В феврале бабу Катю вдруг отвезли в больницу.
Наверное, только для меня, с моей жизнью раздéленой между школой, Клубом, книгами и телевизором, это оказалось вдруг.
Когда хочешь везде поспеть, некогда примечать окружающее.
Я прибегал со школы и, звякнув калиткой, проходил на наше крыльцо под окном Пилютихи, в котором виднелся её профиль в распущенном чёрном головном платке и рука, вскинутая в сторону стенки между её и нашей кухнями.
Дома я бросал папку со школьными учебниками и тетрадями в расселину между диваном и этажеркой под телевизором и возвращался на кухню – обедать с братом и сестрой, если они ещё не поели.
Мама и тётя Люда готовили раздельно для своих семей и баба Катя обедала с Ирочкой и Валериком за тем же кухонным столом под стенкой, что отделяла от хаты Дузенко.
В дневное время по телевизору ничего не показывали, кроме заставки с кругом и кубиками: для настройки изображения с помощью мелких ручек на его задней стенке, если круг неровный, то у дикторов лица окажутся сплюснутыми, или наоборот.
Поэтому до пяти часов телевизор не включали и обед проходил под неразборчивый бубнёж за стенкой у Пилютихи, который иногда переходил в крик не понять о чём.
Я уходил в Клуб и, возвращаясь, опять видел в окне Пилютиху, в подсветке от лампочки в какой-то из её дальних комнат. На кухне она свет не включала.
После возвращения с работы всех четырёх родителей, Пилютиха добавляла громкости.
Отец говорил:
– Вот ведь Геббельс, опять завела свою шарманку.
Один раз дядя Толик приставил к стене большую чайную чашку – послушать о чём она там халяву развернула.
Я тоже прижал ухо к донышку – бубнёж приблизился и раздавался уже не за стеной, а внутри белой чашки, но так и остался неразборчивым.
Мама советовала не обращать внимания на полоумную старуху, а тётя Люда пояснила – Пилютиха всех нас проклинает через стену и, обращаясь к той же стене, сказала:
– И это вот всё тебе же за пазуху.
Не знаю, была ли Пилютиха полоумной – как-то ведь справлялась жить в одиночку.
Дочка её в конце войны уехала из Конотопа, от греха подальше – чтоб не придрались за её весёлое поведение с военными немецкого штаба, квартировавшего в их хате.
Сын Григорий получил свои десять лет за какое-то убийство. Пилюта умер. Телевизора нет.
Может затем и проклинала, чтоб не ополоуметь.
Баба Катя насчёт Пилютихи ничего не говорила, а только виновато улыбалась.
В какие-то дни она иногда постанывала, но не громче, чем приглушённые стеной речи Геббельса .
И вот вдруг приехала скорая и её увезли в больницу.
Через три дня бабу Катю привезли обратно и положили на обтянутый дерматином матрас-кушетку – остатки от былого дивана с валиками – на кухне под окном, напротив плиты-печки.
Она никого не узнавала и не разговаривала, а лишь протяжно и громко стонала.
Вечером все собирались перед телевизором и закрывали створки двери на кухню, чтобы не слышать её стонов и тяжёлого запаха.
В комнату же перенесли кровати Архипенков из кухни и ночевали вдесятером.
Ещё раз вызывали скорую, но те её не увезли, а только сделали укол.
Баба Катя ненадолго затихла, но потом снова начала метаться на кушетке, повторяя одни и те же вскрики:
– А божечки! А пробочки!
Через несколько лет я догадался, что «пробочки» это от украинского «пробi» – «прости господи».
Баба Катя умирала трое суток.
Наши семьи ютились по соседям – Архипенки в пятнадцатом номере, а мы в двадцать первом, на половине Ивана Крипака.
Взрослые соседи давали родителям невразумительные советы, что в нашей хате нужно взломать порог, или какую-то там половицу.
Самое практичное предложение внесла тётя Тамара Крипачка, жена Ивана Крипака. Она сказала, что кушетка с бабой Катей стоит под окном с полуоткрытой форточкой и свежий воздух продлевает её страдания.
В тот же вечер, мама и тётя Люда ненадолго заглянули в нашу хату, прихватить ещё одеял, потушили там свет и, когда уже вышли на крыльцо, тётя Люда подкралась к кухонному окну и плотно прикрыла форточку.
Она так же крадучись спустилась ко мне и маме – я держал одеяла – улыбаясь, как напроказившая девочка, или так уж мне показалось в темноте безлунной зимней ночи.