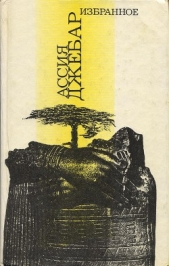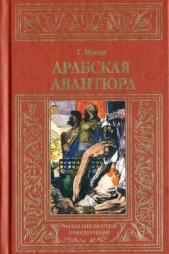Любовь и фантазия

Любовь и фантазия читать книгу онлайн
В предлагаемый советскому читателю сборник включены романы «Жажда», «Нетерпеливые», «Любовь и фантазия», принадлежащие перу крупнейшего алжирского прозаика Ассии Джебар, одной из первых женщин-писательниц Северной Африки, автора прозаических, драматургических и публицистических произведений.
Романы Ассии Джебар объединены одной темой — положение женщины в мусульманском обществе, — которая для большинства писателей-арабов традиционно считалась «закрытой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Со времен епископа Гиппона [76] над Магрибом пролетела тысяча лет. Череда других нашествий, других завоеваний… Вскоре после фатального оборота, который приняли кровавые события в опустошенном, разграбленном Хилале, Ибн Хальдун, фигура столь же значительная, что и Августин, заканчивает свою полную приключений и благостных размышлений жизнь созданием автобиографии. Он называет ее «Та'ариф», то есть «Сущность».
Ему, как и Августину, безразлично, что он, автор — первооткрыватель «Истории берберов», пишет на языке, воцарившемся на земле праотцев после жестокого кровопролития! На языке, навязанном насилием, но и любовью тоже…
Ибн Хальдуну было тогда семьдесят лет; после встречи с Тамерланом — последнего своего приключения — он готовится к смерти в египетской ссылке. И тут вдруг поддается внезапному желанию заглянуть в глубь самого себя, узнать, что же он собой представляет, и становится объектом и субъектом беспристрастной аутопсии.
Что касается меня, то, когда мне случается писать даже банальнейшую из фраз, ставшая прошлым война между двумя народами неизменно накладывает на нее свой отпечаток. Мое перо, словно осциллограф, отражает все: и образы войны — завоевание или освобождение, неважно, но главное — вчерашний день, — и выражение любви, двусмысленной и противоречивой. Память моя вгрызается в черный перегной; молва, которая направляет ее, водит и моим пером. «Я пишу, — говорит Мишо, [77] — чтобы познать самого себя». Познать себя, познав свое стремление слиться со вчерашним врагом, с тем, у кого я украла язык…
Автобиография, которая пишется на языке противника, плетется, словно паутина вымысла, по крайней мере до тех пор, пока забвение уносимых потоком слов мертвецов не окажет анестезирующего действия. Надеясь «познать» себя, я всего-навсего укрываюсь другим покрывалом. И каждый раз, желая добиться четкой ясности, я все более растворяюсь в безликой массе своих прабабушек!
Напрашивается странный вывод: я родилась в тысяча восемьсот сорок втором году, как раз тогда, когда капитан Сент — Арно, уничтожив зауйю бени менасеров, моего родного племени, восторгался сгоревшими садами и оливами, «самыми красивыми на африканской земле», — подчеркивал он в письме к брату.
Столетие спустя отблески этого пожарища позволили мне перешагнуть порог гарема; его зарево до сих пор освещает мне путь и дает силы рассказывать. Но прежде чем возвысить свой собственный голос, я вслушиваюсь в предсмертные хрипы и стоны замурованных Дахры, пленников острова Святой Маргариты; это они придают гармонию звукам моего голоса. Они взывают ко мне, поддерживают меня, чтобы в нужный момент мир услышал мою одинокую песнь.
Чужой язык со следами запекшейся крови, подобно тунике Несса, с детских лет опутал меня дар любви моего отца, который каждое утро водил меня за руку в школу. Арабскую девочку в одной из деревушек алжирского сахеля…
С отроческих лет очутившись на воле, за чертою гарема, я брожу как в пустыне. В шумных кафе в Париже или еще где — всюду меня окружают незнакомые люди; часами, забыв обо всем на свете, прислушиваюсь я к чужим голосам, не замечая лиц, ловлю обрывки разговоров, осколки чьей-то жизни, чье-то невнятное бормотанье, звуки и шорохи, всплывающие на поверхность раскаленной магмы людских судеб, судеб тех, кому удалось обмануть бдительность неусыпных стражей, их инквизиторское око.
Лемех моей памяти взрезает пласты, оставшиеся позади, во тьме, а я тем временем с трепетом впитываю в себя солнечные лучи, затерявшись среди женщин, безнаказанно соседствующих с мужчинами… Меня называют изгнанницей. Но все гораздо хуже: меня отторгли, чтобы я отыскала следы свободы и указала путь моим горемычным сестрам. Я-то считала, что устанавливаю связь, а на деле, оказалось, увязаю все в той же трясине, над которой только — только забрезжил свет.
На дне моей непроглядной ночи, там, где разбужены мертвецы, шевелятся французские слова… Слова эти, мне казалось, я сумею поймать, как голубков, несмотря на стаи вьющихся над бойней воронов и злобный вой шакалов, рвущих на части мрачные останки. Слова-горлицы, малиновки, вроде тех, что населяют клетки курильщиков опиума… Долгий тихий плач сеется сквозь решето забвения, навевая сны о светлой любви. Я пишу, и свет зари разгорается.
Мой вымысел и есть та самая автобиография, что вырисовывается, отягченная наследием, которое давит на меня. Сумею ли я устоять?.. Однако родовая легенда прокладывает себе извилистый путь во тьме, в молчании слов невысказанной любви, слов не имеющего письменности родного языка, передающегося из поколения в поколение посредством немой и дикой пантомимы, и в этой тьме находит себе приют воображение, которое сродни уличному нищему…
Шепот моих сестер в заточении вновь набрасывает на меня привычный покров. Но я знаю, где найти силы, чтобы сорвать с себя покрывало; долг повелевает мне прикрыть им незаживающую рану, кровью которой пропитываются слова.
«Тзарл-рит» — испускать радостные крики, хлопая себя руками по губам (женщины).
Боссы. Арабо-французский словарь кричать, вопить (женщины, когда у них случается какое-либо несчастье).
Казимирский. Арабо-французский словарь
Париж, начало июня 1852 года. Десять женщин, одна из которых вышеупомянутая Полина, разбужены внезапно в тюрьме Сен-Лазар незадолго до рассвета:
— Отбываем, отбываем в Алжир!
Монашки торопят их, чтобы ускорить сборы. Еще не начало светать; в серых коридорах с высокими потолками гулко бряцает оружие.
— Отбываем в Алжир, — снова раздается боязливый голос.
Так название моей страны гудит набатом для этих пленниц. Узлы быстро увязаны, остается сделать отметку в тюремной книге и-марш, вперед, без всяких церемоний… Только одной из них, очень больной, удалось добиться, чтобы ее отвезли.
В предрассветном Париже, по которому идет группа заключенных в сопровождении солдат, смешки запоздалых гуляк оскорбляют тех, кого принимают за уличных девиц. Но вот наконец пристань и Сена. Через несколько часов отплытие в Гавр; оттуда они поплывут дальше, к дикому берегу. Именно туда парижские трибуналы отправляют после государственного переворота 2 декабря неисправимых упрямцев — тех, кто не смирился после поражения революции 1848 года… Сотни мужчин и женщин будут сосланы таким образом…
Среди этого «народа», как говаривали наши сказительницы, находилась и Полина Роллан. Учительница сорока четырех лет, которая «сражалась за свою веру и свои убеждения», помните слова пастушки с гор? Такой же бедной, как Полина, такой же обездоленной и очень гордой…
Полина Роллан высадится возле Орана 23 июня 1852 года. Четыре месяца спустя, 25 октября, она, совсем больная, снова сядет на корабль в Боне, чтобы вернуться во Францию и тут же вскоре умереть.
Все это лето она будет двигаться с запада на восток, перебираясь из города в город, и, конечно, под неусыпным надзором, преследуемая, гонимая…
Ее переводят из крепости Мерс аль-Кебир в Оран, из Орана в Алжир, из Алжира в Бужи, и во всех этих городах она не видит ничего и никого, кроме солдат и своих тюремщиков; оттуда по горным тропам, которые вьются по соседству с непокоренной Кабилией, Полина добирается на осле до Сетифа, где кое-как существует, работая швеей. Через два месяца ее переводят в крепость Константины; наконец она попадает в Бон и там уже получает разрешение вернуться во Францию — о ней, так сказать, позаботились: ну как же, мать троих детей, хотя и считается «опасной смутьянкой».
На корабль она поднимется смертельно больной. В пути она спит на палубе, и ее захлестывают волны разбушевавшегося моря. Высадившись в Марселе, Полина так и не сможет оправиться. Она будет лежать при смерти у друзей в Лионе, когда приедет ее старший сын, увенчанный школьными наградами, она уже не придет в сознание. Алжир она покинула в бреду… Страна наша стала для нее могилой; ее истинные наследницы Шерифа с дерева, Лла Зохра, блуждающая по деревенским пожарищам, хор нынешних безымянных вдов могли бы в ее честь испустить свой древний торжествующий клич, эту звучную, судорожную трель!