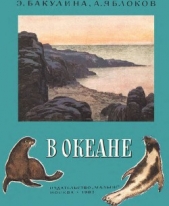Нагльфар в океане времени

Нагльфар в океане времени читать книгу онлайн
Он смог целиком вспомнить «Антивремя», роман, который конфисковали при обыске кагэбэшники до последнего листика черновика. Вспоминал он в Мюнхене, где нашел кров вместо Израиля, назначенного андроповцами: «Либо на Ближний Восток, либо на Дальний!» За что был изгнан? За «Запах звезд», книгу рассказов, ее издали в Тель-Авиве; за «Час короля» — за повесть в тамиздатском «Время и мы», да за статьи в самиздатском «Евреи в СССР». «Признайтесь, вы — Хазанов?» — «Нет, не я. У меня фамилия и псевдоним другие». К допросам ему было не привыкать. У «Запаха звезд» не было шанса выйти в России: автор рассказывал там о сталинском лагере, жутком Зазеркалье, в котором ему довелось провести пять с половиной лет своей жизни. Этот документ правдив и беспощаден — он не только о лагере, где томится человек, но и о лагере, что Те возводят в его душе. Тема не для брежневского соцреализма, потому книгу пришлось печатать Там, брать себе новое имя, а когда оно зазвучало — твердить, что знать не знаешь Бориса Хазанова, слава его — не твоя слава. Иначе — 70-я статья, Дальний Восток. И ему пришлось уехать. В Мюнхене Борис Хазанов десятый год. Редактировал журнал, пишет книги. Все они теперь уже изданы дома, где их главный — думающий на одном с их автором языке — читатель. Его последние роман и повесть перед вами. Мир будней в них укрыт флером фантазии, этим покрывалом, что может соткать лишь он.
"Нагльфар в океане времен" — это роман о фантастике обыденной жизни в сталинской Москве 1939 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вещи живут другой, мертвой жизнью, и время для них протекает иначе; если бы мы были внимательней, мы увидели бы вокруг себя знаки будущего, которое для мертвых вещей уже совершилось.
Бахтарев сел на корточки перед куклой, как садятся перед ребенком, поднял голову — девочка стояла, не спуская с него глаз. Внезапно он понял, что она ждет, ждет, снедаемая любопытством, которое в некотором смысле противоположно желанию, хотя и стремится к тому же. Вздохнув, он встал, некоторое время перелистывал старую книгу, он колебался, пока наконец его не потянуло к девочке, и, как мы знаем, между ними произошла схватка из-за ножа. Можно предположить, что девочка, обороняясь, ранила, а может быть, и убила мужчину, а затем сбросила его с крыши. Эта гипотеза, однако, не подкреплена фактами.
Они стояли, обнявшись, не зная, что делать дальше, он целовал ее в голову, в глаза. Быть может, это и было то единственное мгновение, когда оба почувствовали, что больше не надо преодолевать ряды заграждений, колючую проволоку одежды, мертвую полосу стыда, огневые точки пола, потому что нет больше войны и нет надобности овладевать друг другом, потому что, сами того не заметив, они уже соединились, они вместе, они одно, как Адам Кадмон. Перемирие длилось одно мгновение. Вспыхнул беглый огонь. Ноги под девочкой подогнулись. Некоторое время любовники барахтались на полу. Ему показалось, что он раздавил ее своей тяжестью, он взглянул в ее расширенные от ужаса глаза и понял, что она ждет насилия, ждет боли и, может быть, смерти. Не тут-то было. «Ну что же ты, — вскричала она, почти плача, — ну!., ну!..» — и била его кулаком. Ее пальцы в отчаянии схватили его липкую, беспомощную плоть, так что он взвыл от боли. Никогда в жизни он не чувствовал себя до такой степени опозоренным. Открыв глаза, он увидел, что девочка сидит рядом с ним в той же позе, в которой сидела Маша, и с невыразимым презрением, не мигая, смотрит на него. Он встал и поправил одежду. Его глаза остановились на окошке мансарды. С минуту он думал о чем-то, потом поплелся к окну, вылез, глубоко вздохнул и шагнул в пустоту, подтвердив слова Тацита о том, что дело богов — не заботиться о людях, а карать их.
73. Эпилог: Москва

Нет ничего легче — по крайней мере так всем нам казалось, так кажется и сейчас, и будет казаться всегда, — нет ничего естественней, чем представить себе великий город как единое тело, точнее, душу, вобравшую в себя тела и души всех; песни и транспаранты, культ столицы, воскресивший обычаи Рима, особый сакральный язык, каким было принято говорить о Москве, — все это было неспроста, все было лишь более или менее неуклюжим выражением веры во всеобщую душу. Эта душа обвевала вас, когда, приближаясь к Москве, вы высовывались из окна вагона и вдыхали стальной и угольный воздух, когда трясло и болтало на стрелках, в паутине сходящихся и расходящихся рельс, не кто иной, как она сама, эта душа города, глядела на вас из пыльных окон приземистых железнодорожных зданий, с проносящихся мимо пригородных платформ, с замызганных надписей: «Москва-товарная», «Москва-сортировочная» и как они там еще назывались, из серой, ржавой, латанной толем и железом неразберихи складов, сараев, заборов, хибар, жалких цветников, двухосных вагонов, вросших в траву, с занавесками на окнах, с бельем на веревках… и вдруг мост, и под мостом улица, и первый трамвай: вы уже в городе, вы сами — Москва.
Эта душа объяснялась с вами на языке вывесок и знаков уличного движения, напоминающем язык глухонемых, по вывескам вы учились грамоте и смеялись от счастья, узнавая знакомые кириллические буквы, смесь Востока и Запада, Эллады и Рима, вы рисовали их пальцами в воздухе, варежкой на снегу, и мало-помалу они вытеснили ваши каракули, подчинили себе неловкие пальцы, держащие карандаш, перестали быть чьим-то свободным изобретением и превратились в частицы громадного, вечно мертвого, вечно воскресающего тела: в этих знаках жила Москва.
Сколько бы вы ни странствовали по этому городу, плелись по улицам в скользких резиновых ботах и переправлялись через людные перекрестки, чувствуя, как рука взрослого судорожно сжимает ваше запястье, — упаси Бог потеряться в этой толпе! — сколько бы ни тряслись, сидя на чьих-то коленях в гремучем трамвае с заиндевелыми стеклами, где можно было процарапать ногтем, продуть дыханием темный глазок, похожий на лунку во льду на Чистых прудах, через которую удят рыбу, никогда там не водившуюся, сколько бы ни терпели в полутемном трюме автобуса-корабля, в толчее, уцепившись за кого-то, задрав голову, задыхаясь в зимнем пальто, в шапке с завязанными ушами и кашне, которым вас обмотали вокруг поднятого мехового воротника, одним словом, куда бы вы ни ехали, хоть на край света, хоть в страну гипербореев, [21] к лестригонам и лотофагам, к легендарным родственникам где-то за Абельмановской заставой, — город не отпускал вас, его улицам, закоулкам, подъездам и подворотням не было конца. Город был так велик, что не мог быть для вас родиной. Город был обитаемой частью мира, той ойкуменой, за которой начинались пустынные дебри, куда не ступала нога человека, лесные чащи, не отзывавшиеся ни на чей голос, моря, по которым никогда не скользил парус. Город был вашей цивилизацией, вашим фаустовским тысячелетием, вашим кругом земель; но истинной родиной, подарившей вам речь, и письменность, и зрение, и слух, родиной, за которую вы сражались под сводом подворотни, в ущелье Фермопил, были для вас дом и двор.
Над вашим телом, над останками павших произнес свою знаменитую речь, изронил слово верное вождь народа и революции. «Афиняне! — воскликнул он. — Афиняне!..» И простер руку с броневика. В двенадцать часов по ночам, в центре города и Вселенной, у розовых стен с зубцами, как ласточкины хвосты, за которыми древнее, органическое, грибное, широкобедрое и широкозадое зодчество уживается с деспотизмом прямых линий, с фаллической мощью увенчанного золотым желудем Ивана Великого. В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик. И грому палочек вторят куранты, и растворяются дубовые двери мавзолея, и Ленин в ботинках с болтающимися шнурками, на ходу просовывая руки в рукава пальто, поспешно выходит мимо окаменевшей стражи и проверяет часы: двенадцать часов по московскому времени, где секунды означают год, а минуты — столетие. Он засовывает часы в часовой кармашек брюк, одергивает жилет, смотрит наверх, переводит взгляд от циферблата Спасской башни к двуглавой птице: ее нет. Пора! Барабанщик, в буденновке, с черными провалами глазниц, ждет, вознеся палочки — малоберцовые кости. Товарищ, куда же делся орел? Русь, дай ответ… Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, стучит барабан, башмаки печатают шаг по брусчатке.
Вы ждали его, не правда ли, и не зря подросток в брезентовом армяке, в слишком просторных брюках и кепке, надвинутой на нос, вперялся косящим взглядом в тусклую мглу переулка, держа наготове игрушечный пистолет, не напрасно стояла битый час у ворот, с окоченевшими руками, с хлебом-солью на подносе, в праздничном сарафане и кокошнике, с месяцем под косой, со звездою во лбу, красивая пышногрудая Вера; только не принял он ее поклона, не взял подарка: некогда, товарищ, спешу на Лондонский съезд, на митинг у Финляндского вокзала; да и во дворе заждались. Сухим горохом рассыпается дробь барабана, звучит команда, звучит, срываясь, дрожа от счастья, от волнения, от страха, рапортующий голос управдома, и жильцам за темными окнами снятся грозные сны и былые походы. И он проходит, ладонь у кепки, вдоль строя, и следом, с шашкой наголо, спешит, не может попасть в ногу управдом Семен Кузьмич.
Сама собою воздвиглась трибуна, вам удалось пристроиться на пожарной лестнице, вы видите всех, а вас никто не замечает, управдому не до вас, и уже кто-то суетится с графином, художник Бродский, расположился с палитрою и мольбертом у подножья, — но, человечнейший из людей, он останавливается и говорит с правофланговым. Мягко журит Сергея Сергеевича за недооценку роли революционного пролетариата, за переоценку административного аппарата, и бедному уполномоченному с мечом на рукаве и со шпалой в петлице нечего ответить, да и нечем: молча тычет он пальцем в свои замершие, запекшиеся уста, показывает на простреленную голову. Но для каждого найдется задушевное слово, с каждым говорит Ильич, с патлатым старцем по-древнееврейски, с Корнелием Тацитом на серебряной латыни. Карапузу на кривых ножках, внучонку Семена Кузьмича, Толиному сыну, он надел на голову свою кепку, простреленную пулей Фанни Каплан, а коллекционеру отбросов… что же сказать коллекционеру, что ему подарить? И Ленин делает знак рукой. Круглый, белый, как грудь Веры, теплый, как пуховая постель, каравай съезжает с подноса в мешок собирателя, и туда же летит солонка.