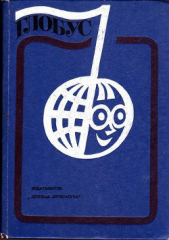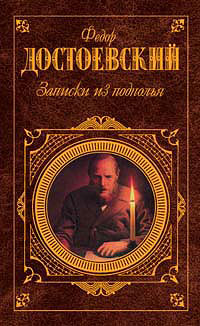Скверный глобус
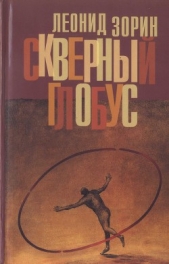
Скверный глобус читать книгу онлайн
Новую книгу знаменитого писателя и драматурга Леонида Зорина составили произведения последних лет: вышедшие в 2006–2008 годах в «Новом мире» и «Знамени». Все они написаны в излюбленном Зориным жанре маленького романа, причем большинство — как развернутый монолог. Собранные вместе, они обнаруживают цельность авторского замысла: объединяя разные эпохи — прошлое, настоящее и будущее, столицу и провинцию, близкое и дальнее зарубежье, самых разных и непохожих героев — людей, навсегда вошедших в историю, и тех, кто творит ее повседневно, — у каждого из них собственный роман с жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Миссия эта была полезной. Прежде всего знакомством с японцами. Не из привычного любопытства и не по службе хотел я понять, как они приняли гибель иллюзий, как пережили Хиросиму. Я думал не только о переменах в их национальном характере, я видел, как из руин возникает истинно образцовое общество. То же происходило с немцами. Крах и триумф порою имеют обескураживающие последствия. Двадцатый век вколотил в наши головы то, что победа и поражение меняются своими местами.
Один мой сотрудник меня спросил: можно ли стать великой державой, не обладая великой армией? Я пробурчал: «Скорее, чем с ней».
Эту же мысль, иначе выраженную, я слышал от генерала Макартура, с которым искренне подружился. Он мне сказал, что запрет на оружие рождает нужду в его замене. Духовные мускулы населения могут однажды оказаться могущественнее, чем его войско.
Ну что же, оба старых солдата, как выяснилось, не слишком ошиблись. Теперь уже нет никаких сомнений, что мир очень скоро прибавит в росте. Естественно — за счет двух гигантов, встающих из собственных развалин.
Я дорожил этой новой дружбой. Нечасто у двух пожилых людей такого разного происхождения, различного кроя, несхожей среды вдруг возникает подобная общность и обнаруживается родство.
Наши беседы мне доставляли почти такое же наслаждение, какое мне приносила страсть. Когда нам однажды пришлось проститься, я, странным образом, ощущал какую-то горькую осиротелость. Думаю, что и его коснулась такая же зимняя пустота.
К закату жизни почти физически чувствуешь, как редеет мир. Едва ли не всякий день обнаруживаешь некое новое зияние. Но мало-помалу оно затягивается защитной пленкой цвета слюды. Природа лишает сознание красок, без них как-то легче существовать. Некрополь должен быть однообразен, чтобы не рвать на части сердце.
Но есть утраты — они не лечатся. Место насильственной ампутации не стягивается соединительной тканью, не зарастает ни свежим мясом, ни охранительным рубцом. Мне не хватает генерала.
Он умер два года тому назад. Когда я дошагал до восьмидесяти. Когда мне пришлось совершить поездку на преданную нами Формозу. И вновь мне велели отправиться в путь — на этот раз хоронить Макартура. На горькой торжественной церемонии я не был самим собою, Пешковым, прибывшим взглянуть в последний раз на друга, который обрел покой. Я представлял не себя, а Францию.
Такое со мной происходило все чаще — как видно, совсем уже сросся с новым отечеством, стал его частью. Я заплатил за это признание каждым легионерским днем, каждой верстой моего путешествия. При этом заплатил не скупясь. Франция отдает долги.
Не раз и не два в Почетном Дворе священного Дома Инвалидов я получал свои ордена, они уже с трудом умещались на генеральском парадном мундире. Не раз и не два привелось убедиться, что больше себе я не принадлежу, я превратился в одну из реликвий на ярмарке национальной спеси. В моей фигуре была величавость по классицистскому образцу — старый израненный ветеран. Но был и экзотический привкус — явившийся из непонятной России брат ее первого президента и сын великого человека, пусть даже его духовный сын — ныне солдат и защитник Франции, Великолепный Однорукий.
Я спрашивал себя: что я чувствую? Я столько думал об этих днях, я столько мечтал дожить до времени, когда перестану быть пришельцем, когда меня назовут своим. И вот пора эта наступила, мое восхождение завершилось, и пик достигнут — Сизиф взошел и вроде бы даже втащил свой камень. Но на седой вершине так пусто, так трудно дышать разреженным воздухом, так одиноко и морозно.
24 ноября
Шесть лет мы убивали друг друга. Уже без всяких условных пауз. До этого общего побоища почти десять лет я провел в Марокко, участвуя в противостоянии двух разных культур (или разных религий — это как вам будет угодно). Вернувшись в Париж, я наивно надеялся, что обрету состояние мира. На деле же меня ожидали смятение и ночная тоска.
Вторая мировая война (так же, как первая) объединила и синтезировала — по-своему — эти религии или культуры. Культуру обесценения смерти с культурой обесценения жизни. Война доказала, что жизнь и смерть, в сущности, мало что значат и весят — обе они в конечном счете только орудия игры, ведущейся со дня основания нашего мудрого миропорядка.
Что оставалось? Да ничего. Установить свои ритуалы.
Мой каждодневный ресторан — русский. Давно освящен традицией. Мои регулярные визиты стали своеобразным обрядом. Однако в минувшую субботу собрались на Сен-Жермен де Пре в кафе «Deux mageaux». И неслучайно. Ибо в тот день предстояло отпраздновать интеллектуальный триумф. Поэтому был избран тот храм, где Сартр, вдохновленный Симоной, провозгласил — лет десять назад — свой манифест экзистенциализма. Где же и чествовать Эдмонду? Ее элегический вздох о Палермо увенчан гонкуровской наградой.
Я искоса смотрел на нее. На то, как она сияет и светится, как силится выглядеть равнодушной и, между тем, вбирает всей грудью терпкий и пряный хмель фортуны. За ней ухаживал крайне учтивый и стилизованный господин с литературной трубкой в зубах. Как мне сказали, известный критик. Возможно. Его звучное имя мне ничего не говорило.
Он соизволил пошутить. Успех, как словесность, непредсказуем. Не странно ли, что «нашей Эдмонде» высшую французскую премию принес ее итальянский роман?
Нисколько не странно. Самые прочные, самые острые впечатления нас посещают в истоке дней. Я тоже был обожжен Италией. Эдмонда познала ее ребенком, а я — в свою соловьиную пору: даже и час, не посвященный, не отданный всецело любви, казался мне отнятым у жизни.
Я без труда воскресил их всех, видел их лица перед собою. От той чертовки из кабачка, любовно кормившей меня форелью, до королевы, поившей водой в горячий ослепительный полдень, когда я изнемогал от жажды.
Потом в ушах моих прозвучал отцовский укоризненный голос: «Сынок, сынок, всех ягод не съешь». Впрочем, тогда и сам Алексей был еще молод и счастлив в объятьях своей мятежницы-генеральши.
Должно быть, виновница торжества заметила, что мой взор затуманен знакомой ей лирической дымкой. Она обронила — и не без яда, — что вроде бы в поле моего зрения попала некая незнакомка. Уж так устроены это зрение и его поле — они не могут не обласкать своим вниманием едва ли не каждую мордашку.
Я возразил: что значит «едва ли»? Любая женщина, не забывшая, что она женщина, вправе рассчитывать на то, что глаза мои загорятся. Если Эдмонда всерьез полагает, что я в моем возрасте капитулировал, что вижу ее одну на свете, то это не более чем восхитительный, но неумеренный эгоцентризм. Впрочем, естественный и понятный в устах гонкуровского лауреата.
Мысленно я продолжил ответ. Женщина, и только она, может преобразить наш мир в солнечный луг в золотых цветах. Лишь раз я увидел его непридуманным и существующим в самом деле — то было в майский день под Аррасом, когда мы пошли в роковую атаку.
Но эта реальность не обессмыслила того, мальчишеского, видения, и каждая новая встреча с женщиной его ликующе воскрешала.
Так было и в Нейи с Керолайн, и с Саломеей, и с милой княгиней, которой я посвятил свою книгу. Не зря же я вспоминал ее профиль, валяясь с очередным ранением в легионерском лазарете. И не однажды так было в жизни, которой вдосталь выпало войн, кровопусканий, азарта, риска.
И все же Эдмонде не стоит хмуриться — она и стала, в конце концов, моей заминированной любовью, последней ставкой в последней войне, моей обреченной войне со временем, теперь, когда всякий мой день и час могут вдруг стать прыжком с обрыва.
Она уверяет меня, что в старости я стал похож на Андре Моруа. В ответ я пожимаю плечами: жаль, что не на его героев. Она усмехается: не завидуй. Твоя биография увлекательней, чем участь этих несчастных каторжников, прикованных к своему столу.
Не знаю. Не дерзну им сочувствовать. Когда-то Алексей мне сказал: чтоб сделать из своей жизни каторгу, ты просто обязан ее обожать.