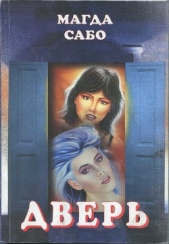Пилат

Пилат читать книгу онлайн
Очень характерен для творчества М. Сабо роман «Пилат». С глубоким знанием человеческой души прослеживает она путь самовоспитания своей молодой героини, создает образ женщины умной, многогранной, общественно значимой и полезной, но — в сфере личных отношений (с мужем, матерью, даже обожаемым отцом) оказавшейся несостоятельной. Писатель (воспользуемся словами Лермонтова) «указывает» на болезнь. Чтобы на нее обратили внимание. Чтобы стала она излечима.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Антал, судя по всему, не был в восторге от решения Изы, но возражать не стал. Он сказал, что проводит Домокоша к Деккеру; в клинике ему дадут поужинать, принесут прямо в комнату; Иза, очевидно, поужинает здесь. Пока он не вернется, пусть она никого не впускает, если хочет покоя. У Гицы, правда, есть свой ключ, так что пусть Иза закроет дверь на засов.
Домокош, уходя, поцеловал Изу на глазах у Антала. Она сама удивилась, насколько холодной оставил ее этот поцелуй. Она слышала, как они закрывают за собой дверь прихожей, слышала, как запрыгал по двору Капитан; от этого сердце ее заболело особенно сильно. За окнами зазвучали оживленные голоса мужчин, в интонациях чувствовалась вспыхнувшая внезапно симпатия. «Со мной он никогда так не говорил», — подумала Иза о Домокоше.
Теперь она жалела, что отказалась ночевать в клинике, — хотя представить, что ей пришлось бы провести ночь под одной крышей с останками матери, было столь же невыносимо, как и допустить, что Антал и Домокош будут дружески беседовать, может быть, до самого утра. Потом она успокоилась немного и даже пожала плечами, презирая себя за слабость, за то, что не посмела пойти к Деккеру, оставить мужчин вдвоем. Что может Антал рассказать о ней Домокошу такого, что она хотела бы скрыть от него? Она никогда не скрывала правду, Домокош и так знает, что это Антал ушел от нее, а не она. Лучше б они оставались здесь, а она бы сейчас шагала к клинике, вдыхая горькие запахи парка.
Теперь остается ждать, пока все оживет здесь вокруг, пока заговорят немые предметы. Такие вот сумерки, непрочные, зыбкие, подсвеченные изнутри, когда в домах уже топят печи, а на дворе к вечеру пахнет морозцем, Винце называл золотыми. Вещи вокруг, и новые, приобретенные Анталом, и старые, сохранившиеся от родителей, были почти ощутимо живыми. Черная полированная горка стала шкафчиком с баром; открыв его, она увидела внутри толстую, смешную отцовскую кружку. «Бальзамный ров, — устало думала Иза. — Наваждение какое-то!»
Она не могла усидеть на месте. Выйдя в другую комнату, спальню Антала, посмотрела его книги; у него стало вдвое больше книг, чем в то время, когда они были женаты. Сегодня, конечно, она будет спать не здесь, а в большой комнате, где они жили когда-то вместе. Если бы Антал не забрал старую к себе, если бы не боялся, что у Гицы она простудится… Но Антал всегда был сентиментален. Уж лучше бы она простудилась: хотя бы осталась жива.
Она вышла в прихожую. Палка Винце, его табачное сито висели возле кованых крючков вешалки, из материного настенного кармана с вышитыми крестиком словами «Мир и благословение» торчали забавные пластмассовые щетки в крапинку. Она открыла дверь в их бывшую с Анталом комнату, нашарила на стене выключатель.
Еще не включив свет, она уловила знакомый запах — запах матери. У старой все вещи пахли лавандой; густой, чистый аромат плавал в воздухе. Постель стояла нетронутой; чемодан — с опущенной крышкой, но с открытым замком, чтобы одежда не слишком мялась и проветривалась через щель — лежал на ковре, словно насторожившая уши, ждущая зова собака. Сетка исчезла, лишь содержимое ее валялось вокруг: свернутое полотенце, пустая коробка из-под домашнего печенья. Бутылку с чаем Иза не заметила в Пеште и ничего не знала о ней. «Обманула все же, — подумала Иза, и у нее снова полились слезы, — даже чай с собой приготовила. В поезде продают минеральную воду, а она не поверила».
Иза открыла было чемодан — и тут же снова закрыла его. В лежавших там вещах словно сохранилась частица матери: она не могла этого вынести. Комната осталась такой, словно мать и отец все еще жили здесь, словно каким-то чудом в ней сохранилось что-то от улетевшего, полузабытого детства; Изе казалось, будто старая лишь ненадолго вышла отсюда; если убрать под кровать чемодан, ничто бы не говорило о том, что это лишь временное пристанище. Здесь дышать было и вовсе невмоготу, Иза вернулась к постели Антала и легла; о еде не хотелось и думать. Когда Антал вернулся домой и включил свет, он там и застал ее: лежа на застеленной кушетке, она курила и смотрела на него.
— Я не могу там спать, — сказала Иза.
— Хорошо, оставайся здесь.
На какое-то мгновение, абсурдное, непростительное, когда он наклонился к кушетке и взял с ночного столика две приготовленные книги, Иза подумала: он останется с ней. У них никогда не было отдельных кроватей, и никогда их кровать не была шире этой кушетки. Иза чувствовала: теперь и Домокош, и мать невероятно далеки от нее. Если б Антал еще раз притянул ее к себе, обнял, если б она снова ощутила его рядом с собой — она бы избавилась от этого страшного напряжения, забыла бы о своей безграничной печали.
Он не остался; лишь наклонился к ней — теперь уже именно к ней, — потрогал рукой ее лоб и нащупал пульс на запястье; она содрогнулась от разочарования и гнева. Он коснулся ее как врач, как она прикасалась обычно к матери.
— Дать тебе снотворное?
Она из принципа ответила: нет.
— Спокойной ночи.
Дверь уже не скрипела, как при жизни отца, петли были заботливо смазаны — но слух Изы одновременно воспринял то, что было и чего не было: бесшумный ход двери и непрозвучавший ее скрип. Добитая этим странным ощущением, она дрожала под одеялом. Ночь была тихой и неожиданно теплой, куда теплее, чем полагалось в это время; большие мягкие крылья шелестели над садом.
III
Она заснула только перед рассветом, вконец измученная мелькающими, кишащими в голове образами и воспоминаниями.
Меньше всего ее тревожило близкое присутствие Винце: отец умер логично, как положено умирать людям, а не в Бальзамном рву, пока ночной сторож ругался с каким-то пьяницей. Много думала она и о Домокоше, а ведь он спал так далеко от нее, на другом конце парка, в клинике, на том узеньком диване, на который иногда, не желая оставлять на ночь какого-нибудь тяжелого больного, ложился подремать профессор. Мать же словно слилась с нею в эту ночь, словно переселилась в нее — и говорила откуда-то изнутри, из тканей и крови: в ушах ее звучали какие-то фразы, несвязные слова. Один только Антал, спавший через комнату от нее, был недосягаемо далек. Недосягаем, как небо.
Утром она проснулась усталой — и тут уж никак не смогла избежать встречи с Гицей.
Гица, обнимая ее, расплакалась, оставив мокрые следы на лице и на платье. Изе, впрочем, было чем-то приятно неуклюжее это сочувствие: мастерица не переставала твердить, какой счастливой была покойная Этелка, все-то у нее было, и что за трагедия этот несчастный случай. В общем-то Иза была о Гице весьма невысокого мнения, ее раздражали странные привычки и обеты, которые та неуклонно соблюдала: например, не желала носить ничего, кроме черного, и, как бы холодно ни было, не топила в доме до первого снега. Иза и сама удивлялась, с какой теплотой она смотрит сейчас на Гицу. Бедняжка: старая дева, одна на свете как перст, нелегкая жизнь за плечами — и ведь она знала мать, способна была понимать ее мысли.
Антал подал кофе, как когда-то; утренний кофе и прежде всегда варил он; ковшик замер в его руке, когда он взглянул на Гицу, которая все говорила и говорила, не умолкая. Судя по всему, мастерицу до глубины души потрясло несчастье, она даже принесла остатки печенья и начатую курицу, которая лежала теперь застывшая, но все еще с румяной поджаристой корочкой, на фарфоровом блюде; Гица словно вручала близким усопшей принадлежавшее им по праву, лишь случайно попавшее к ней имущество, как бы передавая им последний, потусторонний привет от покойницы. Иза и смотреть не могла на припасы; даже Гица, по всей видимости, оказалась не в силах их съесть — а уж на что была неразборчива во всем, за что не нужно было платить деньги. Лишь Антал взял кусочек печенья к кофе — будто желая еще раз ощутить во рту вкус, который никогда уже больше не ощутит. Он ел его благоговейно и грустно. К девяти пришел Домокош, он расхваливал клинику, комнату, где ночевал; ему даже удалось обменяться несколькими словами с самим Деккером, Гица ела его глазами; появление пештского жениха несколько скрасило траур.