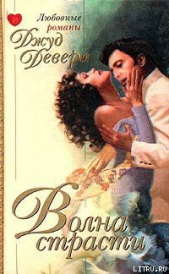Осенний свет

Осенний свет читать книгу онлайн
Роман крупнейшего американского прозаика отмечен высоким художественным мастерством. Сталкивая в едином повествовании две совершенно различные истории — будничную, житейскую и уголовно-сенсационную, писатель показывает глубокую противоречивость социально-психологического и нравственного климата сегодняшней Америки и ставит важные вопросы жизни, искусства, этики.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну-с, — сердечно говорит доктор Фелпс, — спасибо вам, я лично провел чудесный вечер. И моя Марджи, если не ошибаюсь, тоже. — Он подмигнул, и девочка залилась краской. — Пошли, пора, птичка, — позвал он ее, такой смешной, краснолицый, на шее намотан кругами длинный зеленый шарф, и конец болтается за спиной — похоже на смешного человечка с поздравительной рождественской открытки.
Марджи что-то шепнула Теренсу — может быть, просто «до свидания» — и пошла за дедом.
— Двинемся и мы, ребята, — обратился Эд Томас к внукам. Внуки были готовы. Тогда он обнял за плечи Рут и повел к двери.
— Льюис, мой мальчик, — бросил он через плечо словно бы невзначай, — не забудь, ладно?
— Да, сэр, — ответил Льюис; он помогал Эстелл подняться со стула.
— Не навещайте нас, навестим мы вас! — со смехом пропел Эд Томас.
Доктор Фелпс распахнул дверь, и сразу же, оттолкнув его, со двора в кухню бешеным конем ворвался ветер.
— Господи Иисусе! — вскрикнул доктор.
Ветер ли тут повлиял или что-то более темное, но все вдруг примолкли, застыли, словно возглас старого доктора был и в самом деле молитвой.
— Зима на носу, — только и сказал Льюис Хикс. Остальные молчали.
— А ну убирайся, проказник! — в шутку приказала Рут Томас ветру. — Успеешь нарезвиться в праздники.
Но никто не засмеялся. Она стояла на пороге, высоко закинув голову, величавая, похожая на друида.
В наступившем молчании откуда-то из-под горы, не далее чем в полумиле от них, раздался словно бы взрыв бомбы.
— Что это? — шепотом спросила Эстелл.
Вирджиния, каменея лицом, опустила ладонь на плечо Дикки.
— Кто-то, похоже, не управился с поворотом, — сказал Льюис в темноту ночи.
Оба священника уже бежали через двор к своей машине.
Салли Эббот у себя в комнате не услышала взрыва — или, если и услышала, не обратила внимания. Она только заметила, что в доме стало тихо, всего несколько голосов доносилось еще из кухни. Разобрать, кто это и что они говорят, она не могла. Постояла, вслушиваясь, у двери, потом, когда стали отъезжать машины, подошла поглядеть в окно.
— Удирают со всех ног, — вслух сказала она.
Вернулась к двери, прислушалась: теперь говорили еще тише, совсем не слышно. Салли уселась на краю кровати. На душе у нее было тревожно, руки-ноги дрожали — из-за ветра, наверное, как он воет! Посмотрела на часы: первый час!
Надо заснуть, она это понимала. Но о сне не могло быть и речи. Взгляд ее упал на книжонку в бумажном переплете, и, поколебавшись, Салли взяла ее в руки. Открыла на том месте, где кончила читать. Но на раскрытой странице ей с прежней отчетливостью увиделся тот незваный призрачный гость, который тогда стоял у почтового ящика. Она с трудом подняла на кровать ноги и откинулась на спину; надо было только поправить подушку. Достать до подушки было нелегко, но она справилась, опустила на мягкое голову и, держа перед собой книжку, закрыла глаза. И снова ей привиделся тот призрак, но уже не так отчетливо, теперь с ним смешался голос Лейна Уокера и ощущение полного коридора народу, и, главное, неловкость от того, что мексиканец мог принять ее за расистку. Она открыла глаза — все в комнате стало вдруг четким и твердым, все встало на свои места. Салли заглянула в книжку и сама не заметила, как сразу же опять погрузилась в чтение.
В восемнадцати милях от мексиканского побережья из лона тихоокеанских вод вставал Утес Погибших Душ, подобный то ли темному полуразрушенному природному замку, то ли чернотрубному заводу, остатку некой погибшей цивилизации. На дальнем подступе к нему прямо в море торчал одинокий зеленоватый каменный столб наподобие сталагмита — знак гостеприимства, статуя Свободы без факела и без лица. Остров густо топорщился растительностью, однако с пролысинами, словно шелудивый зверь. Растительность вся была бурая или серая, бесплодная, безымянная: здесь неприглядный, скрюченный кактус, там непроходимый колючий кустарник, в котором скрывались страшные обрывы, скелеты рептилий, старые консервные банки.
— Уголок не очень живописный, — признал Сантисилья, — но вполне подходящий для раздумий. Здесь ничто не отвлекает разум, если, понятно, вы обеспечены провизией. Ничто не смущает духа в том смысле, о каком писал Спиноза.
— Спиноза? — вежливо переспросила Джейн, глядя на него поверх очков.
Сантисилья протянул было к ней руку, но передумал и не стал ее трогать.
— Спиноза пишет, что человек, если он голодный или рассерженный, не свободен в своих рассуждениях. Мудрым может быть только свободный.
— А-а, вот что, — сказала Джейн. Она сдвинула на затылок свою сине-бело-красную кепочку, просунула руку под локоть Питеру Вагнеру и посмотрела на небо, будто хотела запомнить его навсегда. Они приближались к входу в черный туннель.
— Идеальное место, чтобы прочистить мозги, — продолжал Сантисилья. — Вспоминаешь Патмос, где было написано «Откровение» святого Иоанна. — Он улыбнулся удрученно. — Мы никогда не используем эту возможность.
— Ну, вы-то ее используете, — возразила Джейн.
— Разве что, может быть, на этот раз.
Вдруг ее задранное кверху лицо выразило изумление.
— Смотрите! — крикнула она и ткнула пальцем в небо.
Сантисилья, сделав руку козырьком, взглянул наверх, но ничего не увидел.
— Что там?
— Не знаю, может, показалось, — помолчав, сказала она и тревожно улыбнулась.
— А что это было? — настаивал Сантисилья.
Она покачала головой.
Темнота скрыла их лица: начался туннель.
Скованные одной цепью, «Воинственный» и «Необузданный» продирались по узкому крытому протоку, зазор между бортами и каменными стенами в отдельных местах был не более фута. Питер Вагнер с помощью своих товарищей маневрировал при свете факела, ориентируясь на эхо, медленно, трудно, и вдруг туннель кончился широким подземным озером. Прихватив лишь самое необходимое, они кое-как, цепляясь пальцами рук и ног, выкарабкались через тесный колодец, напоминающий заброшенную шахту, на высокую, залитую солнцем площадку, где имелась прозрачная пресная вода, купоросно-зеленая и довольно отталкивающая. Джейн держала Питера Вагнера под руку с одной стороны, безмолвный индеец — с другой. В полной тишине слышалось только тихое недовольное похрюкивание пернатых, питающихся ящерицами. Воздух был теплый и сахаристый.
Питер Вагнер уселся на камень, подперев кулаками подбородок, вперив глаза в никуда. Он не сознавал, что во всех своих потребностях зависел теперь от Джейн и от индейца. Ум его бездействовал: удар, нанесенный Сантисильей, причинил ему сотрясение мозга, и три последующих дня выпали из его сознания, как камни, хотя в любую данную секунду он мог с успехом выполнить все, что ему велели. Но провал в памяти — единственное, что он отчетливо сознавал, — действовал раздражающе.
— Удобное место для раздумий, — промямлил он туманно. — Мы все должны хорошенько подумать.
Джейн взяла его руку и поцеловала.
Проходили часы. Джейн время от времени поглядывала на Питера Вагнера с состраданием, впрочем не большим, чем прежде. Она писала письма — своего рода маленькие произведения искусства — мамочке и дяде Фреду. «Мы причалили в прелестной бухточке на мексиканском побережье, совсем не загаженном туристами». Но сколько она ни поглядывала на Питера Вагнера, он оставался недвижен. Недвижен был и индеец, торчавший, точно каменная скала, у него за спиной. Лютер Сантисилья стоял ниже у ручья, в своей белой рубахе с галстуком, в темных очках, и курил. Просто табак. Сигару. Танцор валялся в тени под скалой, с ног до головы покрытый ящерицами, и улыбался во сне. Он потерял память. И мистер Ангел тоже. Мистер Ангел сидел среди черных камней у ручья, не замечая сновавших по нему ящериц, и учил одну рябенькую ящерку карабкаться вверх по палочке. Мистер Нуль, если не спал где-нибудь, очевидно, стоял дозором на вершине скального выступа под названием Бастион. Что же до капитана Кулака, то он весь день сидел, натягивая свои путы, жуя кляп и вращая в бешенстве глазами. Бедный капитан Кулак, думала Джейн. По словам Танцора, его должны были судить как военного преступника.
Ожидание становилось просто невыносимо, во всяком случае для мужчин. В этих поездках ожидание было хуже всего. Всякий раз, как они сюда приезжали, капитан Кулак — или вот теперь Сантисилья — отправлялся на материк и заключал сделку, а после этого они все сидели и ждали, ждали, ждали, пока в одну прекрасную ночь не приплывут мексиканцы, и тогда оставалось только набить трюм «Необузданного» и выйти до зари в открытое море. Господи, хоть бы уж это произошло сегодня ночью, думала она.
Она опять покосилась на Питера Вагнера. Жалко, что она так плохо помнит ту ночь любви. А он, интересно, помнит или нет? Он потом еще несколько раз дотрагивался до нее, как-то даже обнял и поцеловал, но все это было не то. Правда, он почти все время был в оцепенении. Но так или иначе, рядом с ним она чувствовала себя голодной, обманутой и немного даже злой. А черт, до чего же ей сейчас хочется любви. Она отложила перо, чтобы раскурить сигарету с зельем. И сразу же травка вернула ей спокойствие, здравый смысл. Ах, какой же у него печальный вид! Он напомнил ей дядю Фреда в ту ночь, когда ему пришлось перестрелять всех уток. А правда ли это? — вдруг подумалось ей. Правда ли, что он перестрелял уток, или это она сама придумала, наврала спьяну в какой-нибудь сан-францисской кофейне?
Питер Вагнер вдруг на минуту очнулся от оцепенения, помотал головой и потер пальцами глаза. Индеец настороженно поднял голову. Питер Вагнер проговорил настойчиво, беспокойно: «Мы должны все выяснить» — и кивнул. А раз кивнув, закивал снова и снова, как заводной. Джейн прикусила губу и принялась опять строчить письмо:
«Дорогая мамочка! Ты бы знала, как мне одиноко и страшно. Я влюбилась, а у него мания самоубийства. Он уже несколько раз пытался покончить с собой».
Она смяла лист и начала новый:
«Дорогая мамочка, дорогой, дорогой дядя Фред! Я безумно счастлива! Как мне передать...»
Подошел, спотыкаясь, мистер Ангел, держа перед собой палочку, на которой сидела ящерка. Он был страшно горд, словно укротитель динозавра.
— Блеск, — сказала Джейн.
Мистер Ангел кивнул. Он взглянул на Питера Вагнера, и улыбка медленно сползла с его лица.
Джейн вздохнула:
— Он слишком много думает.
И сразу же сама засомневалась. Он ведь сейчас вообще не думал. Просто хлопал глазами и морщил брови, пытаясь сообразить, что к чему. У нее вдруг отчего-то закружилась голова. Правильно сказал Сантисилья и Питер Вагнер вслед за ним: им надо посидеть здесь и подумать, покуда есть свободное время. Хорошенько во всем разобраться. Но когда она попробовала подумать, в голове у нее только возник равнинный пейзаж в штате Небраска: плато с мельницами. Вспомнилось, как по небу бегут черные тучи, блещут молнии, мельницы белеют, будто кости на равнине, дядя Фред бьется с брезентовым пологом и кричит ей: «Джейн! Загони лошадей!» Прямо на них движется огромное облако пыли, позади него — черный дождь. Небеса содрогаются от грома. Лошади в бешеной скачке колесом носятся вокруг нее; она знает, что верный пес надрывается лаем, загоняя лошадей в распахнутые ворота, но ей ничего не слышно. Она бежит, груди больно бьются у нее под рубахой, горло саднит от крика и от трудного свистящего дыхания. В этот краткий миг жизнь была полна смысла и значения. На пороге кухни стояла мать и била в сковородку деревянной ложкой, а ветер обдувал на ней серо-бурые грубые одежды, выставляя напоказ каждый изгиб фигуры. Когда последняя лошадь вбежала в конюшню, а по пятам за ней и верный пес, Джейн на слабеющих ногах ухватилась за тяжелые створки ворот и закрыла их в борьбе с ветром. Прислонилась, обессилев, к мощным горбылям, вся дрожа с головы до ног и судорожно глотая воздух, а потом, услышав, как дождь заревел, забарабанил по железной кровле, побежала вдоль бесчисленных стойл и дальше через золотую, светлую лужайку туда, где под навесом, протянув руки, точно в эстафетном беге, ее ждал дядя Фред. Он втянул ее в дверь, она кубарем скатилась вниз по лестнице, а он затворил тяжелую дверь и заложил засов. Внизу ее ждала мать, уперев в кулаки подбородок, с выражением восторга на лице. Лампочка под потолком вдруг мигнула и погасла, они втроем стояли в сыром, мрачном погребе, поддерживая друг друга, и вдруг, все трое одновременно, расхохотались. Дождь хлестал по крыше, яростно выл ветер, а они стояли в обнимку, как победители.
— И все мы так, — медленно выговорил мистер Ангел, соловея от зелья, — слишком много думаем. — Он тронул ее за руку, потом бережно положил на землю палочку и вернул свободу ящерке, а сам растянулся у ног Джейн. Взяв у нее спички, он опять раскурил трубку, набрал полные легкие дыма и задержал дыхание. Им слышно было похрюкивание птиц, вокруг по камням метались окрыленные тени. Так они просидели почти в полной неподвижности, лишь попыхивая трубками, покуда тени совсем не исчезли и западная скальная стена выступила черным силуэтом на фоне багровых красок неба. Сантисилья сидел под скалой и удил рыбку. Мистер Ангел лег навзничь и смежил глаза. Джейн опустила легкую ладонь ему на живот и с улыбкой разглядывала его подбородки.
— Ты, наверное, удивляешься, как это такой человек, как я, и занимается этим делом, — сказал мистер Ангел.
Питер Вагнер повернул голову и посмотрел на него, и Джейн заметила, что мысль Ангела ему отчасти доступна. Она заметила, что он смотрит на ее руку у мистера Ангела на животе, и даже почувствовала минутную неловкость, однако решила руку не убирать. Лучше всего, подумала она, быть честной до конца. Ей нравится курить травку? Нравится. И нравится держать руку на животе у мистера Ангела.
— Я вырос в типично мелкобуржуазной среде, — рассказывал мистер Ангел. — У меня даже была, можно сказать, недурная работа. В сыскном агентстве. Охранником. Сторожить заводы, музеи. Но потом пошли детишки. А это меняет дело, можешь мне поверить. Я получал вполне приличное жалованье, но когда смотришь на родных детей и представляешь себе, чего бы они могли достигнуть, будь у них чуть побольше возможностей... Конечно, многие живут одним настоящим, я знаю. Но мыслящему человеку это трудно. Что есть настоящее, собственно говоря? Едва только оно наступает, как уже становится прошлым. Нет, жить надо во имя будущего.
Мистер Ангел глубокомысленно закивал с закрытыми глазами, поднес ко рту трубку и еще раз затянулся.
— Настоящий момент — это для животных тварей, — пробормотал он. — Жизнь — ничто. Только будущее важно. Ради детей я способен на все.
Питер Вагнер поднял голову. Круги под глазами делали его похожим на енота. Выше правого уха у него была огромная багровая шишка над проломленной костью.
— Когда вы их последний раз видели? — спросил он.
Мускулы живота у мистера Ангела заходили, напряглись под ладонью Джейн.
— Понимаю, понимаю, — ответил он. — Сам об этом думал.
Питер Вагнер кинул взгляд на Джейн, потом покосился на индейца — тот сидел отвернувшись и глядел во тьму, Питер Вагнер посмотрел на его поднятые колени и большие вялые ладони, потом перевел взгляд вниз и вздрогнул, увидев на собственном ботинке ящериц, которые бросились врассыпную, когда он шевельнул ногой. Он потер себе ладонями виски, чтобы увеличить приток крови и побудить к работе мозг. Джейн видела, как, прикоснувшись к больному месту, он поморщился. Потом он снова поднял голову и посмотрел сначала на ее руку, а потом на высокое, пустое небо, в котором ей нынче утром показалось на минуту, будто она видит НЛО. У нее и теперь при одном воспоминании пробежали мурашки по затылку. Питер Вагнер потянулся куда-то к ногам индейца, и, когда поднял руку, в ней была бутылка с джином. Отвинтив крышку, глотнул теплого неразбавленного джина, замер на миг — и заговорил, медленно и витиевато, как раньше говорил мистер Ангел. Джейн не спеша, чтобы успели разбежаться ящерицы, откинулась на спину и закрыла глаза.
Он говорил:
— Когда я был маленький, меня иногда возили в гости к одному человеку по имени дядя Мортон. Он тоже занимался сахарной свеклой, как и отец, но не имел ни гроша за душой. За это я им восхищался, но он в конце концов сошел с ума — написал книгу о великом негритянско-еврейском заговоре. Там, где он жил, в штате Нью-Йорк, чуть южнее озера Эри, зимой бывают страшные бураны с морозом градусов под сорок. Налетит такой буран, дороги заметет, дворы засыплет слоем снега футов в десять-пятнадцать толщиной. — Он приложился к бутылке. — Кого непогода застала в пути, так и застрянут на шоссе; пока муниципальные спасатели до них доберутся, может пройти несколько суток. А у дяди Мортона был трактор с такой самодельной железной штуковиной спереди, вроде снегового плуга. Вот он сделает, что там ему в тот день нужно по работе, и скорее заводит трактор и принимается за расчистку. Расчистит свой двор, потом улицу перед домом, потом на соседские дворы и улицы переходит и в конце концов выбирается на магистральное шоссе и начинает работать на нем, потому что там наверняка люди застряли и могут замерзнуть до смерти. Помню, снег летит, будто ледяная мельчайшая пыль — я, бывало, ездил с ним на подножке, — впереди в пяти шагах ничего не видно, вдруг только знакомое дерево проступит на минуту черным силуэтом, по ним и ориентировались. Дядя весь закутан, на человека непохож, на нем пальто, а поверх три комбинезона, толстые шерстяные рукавицы, шляпа и шарф закрывают лицо. Я — то же самое. Отыщем машину, и этот безумный человек спускается на землю, будто марсианин, расчищает лопатой снег, распахивает дверцу машины, ну, люди вылезают, как деревянные куклы, лиц не видно, и давай его обнимать и благодарить или, наоборот, орут на него, ругаются, что так долго. Мне, наверное, лет двенадцать было. Сквозь воющий ветер и вихрь белой пыли они бредут к трактору, забираются рядом со мной на подножку и сзади на тяговый брус, теснятся, безликие... Мы их отвозили в какой-нибудь дом — и снова на шоссе. А шоссе длинное, до всех не доберешься, и ни одна живая душа не поможет, один только мой безумный дядя. «Может, пойдешь погреешься?» — кричит он мне, когда рядом оказывается дом. Я трясу головой, хотя промерз страшно, лица не чувствую. Мне казалось, что я принимаю участие в замечательном, очень важном и героическом деле. И мы пашем дальше, и трактор оглушительно воет в белой пустыне. А дядя, закутанный как клоун, то соскочит с трактора, то опять влезет, то лопатой орудует, то рычаги переключает. Он мне напоминал клоунов в цирке, когда они подражают акробатам. Такое впечатление, что они вообще не люди, а набиты тряпками и соломой, понимаете? — ни чувств у них нет, ни мыслей. Ха-ха. Бог его знает, кому подражал мой дядя. Стемнеет, есть хочется, а он все не унимается. Одному человеку всех не спасти, и он это понимал. Должны были выйти на тракторах еще люди. Тогда бы управились. Но никто не выезжал на помощь. На кой им это надо? Они платят налоги для такого случая. Сидят себе по домам. Что они могут, рядовые граждане? Не силачи и не сумасшедшие, как мой дядя Морт. И не герои. Ведь это жизнью рисковать, а во имя чего? Может, безумцу, как мой дядя Морт, которому место на скамье подсудимых... Но я забежал вперед.
Питер Вагнер замолчал, глядя перед собой заледенелыми глазами. Сантисилья подошел от ручья с уловом — несколько рыбин, черных, с какими-то белыми загогулинами, смотреть противно, — и сидел на корточках в двух шагах от Питера Вагнера. Слушал. Мистер Ангел уснул под рукой Джейн. Мистер Нуль все еще был на вахте — наверно, спал без задних ног.
Питер Вагнер продолжал:
— Однажды вечером мы раскапывали особенно сильные заносы. Где-то впереди должен был быть пешеходный мостик. Дядя работал весь день. Вдруг удар! Раздался скрежет, звон битого стекла, колеса забуксовали, трактор наклонился. Я увидел, как дядя нажимает ногой на сцепление, а рукой в теплой рукавице дергает рычаг. Трактор выровнялся и встал. Перед нами в свете фар, в белом клубящемся пламени метели, была машина с пробитой, вдавленной дверцей. За двер-. цей темнота, а вокруг все залито неестественно ярким светом. А еще через минуту снег под вдавленной дверцей окрасился кровью. Вижу, дядя идет туда, широко и неловко раскинув руки, чтобы не упасть, — уморительный, как клоун или медведь в сиянии цирковых огней.
Питер замолчал. Остальные тоже молчали. Он по-прежнему время от времени прикладывался к бутылке, хотя неразбавленный джин, наверно, обжигал ему рот, а мозг — тем более. Иногда он передавал бутылку индейцу. И морщил рот: то ли вкус был отвратительный, то ли собственный рассказ ему был неприятен.
Он говорил:
— Одно к одному, куда ни кинь. Мы не приспособлены к этой жизни. Мы движемся по ней, как антиматерия, чуть только контакт — и взрыв.
Джейн взглянула на Танцора. Оказывается, он не спит. Наоборот, смотрит. Звезды в вышине были как острые ледяные иголочки. Сама не отдавая себе в том отчета, она обшаривала небо довольно внимательным взглядом, высматривая тот объект.
Питер Вагнер говорил (теперь он тер себе лоб над переносицей и бутылки в руках у него уже не было, ее взял индеец):
— Я прочел всякие книги — поэзия, антропология, религия, естествознание, — я прочел книг больше, чем любой известный мне профессор или юрист. И вот что я вам скажу. Существует только два сорта книг. Одни, — он поднял палец, жест получился немного пьяный, как показалось Джейн, — одни изо всех сил стараются доказать, что в мире есть некий тайный, высший смысл, а не только приводы да колесики. А другие, — он поднял второй палец, — другие утверждают, что все как раз наоборот. Начитаешься, так тебе от любой книги одна тощища.
— Ну, это ты брось, — сказал Сантисилья.
Но Питер Вагнер стоял на своем. Индеец у него за спиной совсем стих и насупился. Тело его, кроме горла и руки, застыло в полной неподвижности. Глаза смотрели с гневом. Питер Вагнер утверждал:
— Да чушь это все. Десять тысяч лет без перемен. Люди знай себе выдумывают богов и дьяволов из ничего, ну совершенно из ничего, из одной своей голой необходимости.
— Это ты брось, — повторил Сантисилья. — Людям, чтобы жить, в богах необходимости нет.
— Ну да, если они счастливчики, — согласился Питер Вагнер. — Надо только исключить детскую смертность и самоубийства, и тогда останутся почти только одни счастливчики. Статистика. — Он злобно усмехнулся. — Но не все. Не все счастливчики, я хочу сказать. У меня была сестра — вернее, есть сестра. Оно, конечно, подумаешь, какая важность. Красивая она была, хорошо всегда одета, и богатая к тому же, ну всем взяла, можно сказать, так ее сшиб один тип, светофора он не заметил, и теперь она уродина с растительными мозгами, даже писать самостоятельно не может. Обычное дело — погубленные возможности, ужас, несправедливость. Но все-таки не настолько обычное, чтобы уверовать в злого бога. Даже взять такого человека, как председатель Мао, и его шестьдесят миллионов убийств — так ведь большинство-то людей остались живы. Это мелочь, статистически говоря. Но если беда случится лично с тобой, ну, тогда, брат ты мой, совсем другое дело. Земля уходит у тебя из-под ног, ты хватаешься за голову, падаешь, и если рассчитываешь еще подняться, то скорей, скорей берешься за перо и строчишь какую-нибудь идиотскую книжку. Сочиняешь себе бога, который может все исправить, или излагаешь правду и тем избавляешься от нее. Кто их читает, книги эти, они того доводят до самоубийства.
Он замолчал. Ящерицы сделали стойку, как собаки, и, задрав морды, смотрели на него.
— Как это грустно, насчет твоей сестры, — сказал Сантисилья.
Питер Вагнер сверкнул глазами сумрачно, как индеец.
— Дерьмо! Выдумал я это все! — крикнул он.
После этого долго все молчали. Ящериц стало меньше, но все еще слишком много, и двигались они теперь медленнее, остывая в ночной прохладе. Наконец Сантисилья почти сердито проговорил:
— Почему это вы никто костра не разведете?
— Ценная идея, — сказала Джейн и, сонная, совершенно уверенная, что не сможет и пальцем шевельнуть, все-таки, к удивлению своему, встала.
Капитан Кулак посматривал на них, как старый волк из лесной чащи.