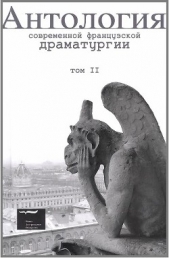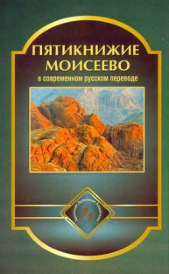Устал рождаться и умирать

Устал рождаться и умирать читать книгу онлайн
В книге «Устал рождаться и умирать» выдающийся китайский романист современности Мо Янь продолжает своё грандиозное летописание истории Китая XX века, уникальным образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, хлёсткую политическую сатиру и волшебный вымысел редкой художественной красоты.
Во время земельной реформы 1950 года расстреляли невинного человека — с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и незапятнанным прошлым. Гордую душу, вознегодовавшую на своих убийц, не примут в преисподнюю — и герой вновь и вновь возвратится в мир, в разных обличиях будет ненавидеть и любить, драться до кровавых ран за свою правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса…
Творчество выдающегося китайского романиста наших дней Мо Яня (род. 1955) — новое, оригинальное слово в бесконечном полилоге, именуемом мировой литературой.
Знакомя европейского читателя с богатейшей и во многом заповедной культурой Китая, Мо Янь одновременно разрушает стереотипы о ней. Следование традиции классического китайского романа оборачивается причудливым сплавом эпоса, волшебной сказки, вымысла и реальности, новаторским сочетанием смелой, а порой и пугающей, реалистической образности и тончайшего лиризма.
Роман «Устал рождаться и умирать», неоднократно признававшийся лучшим произведением писателя, был удостоен премии Ньюмена по китайской литературе.
Мо Янь рекомендует в первую очередь эту книгу для знакомства со своим творчеством: в ней затронуты основные вопросы китайской истории и действительности, задействованы многие сюрреалистические приёмы и достигнута максимальная свобода письма, когда автор излагает свои идеи «от сердца».
Написанный за сорок три (!) дня, роман, по собственному признанию Мо Яня, существовал в его сознании в течение многих десятилетий.
Мы живём в истории… Вся реальность — это продолжение истории.
Мо Янь
«16+» Издание не рекомендуется детям младше 16 лет
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
От этой долгой речи брата сердце в пятки ушло. Если использовать расхожее тогда выражение, это воздействовало на меня до глубины души. Я смотрел на два толстых сука, и в мозгу тут же всплывала ужасная картина: мы с отцом, два Лань Ляня, висим там наверху. Тела вытянулись, всё жидкое из них вытекло, большую часть веса потеряли, покачиваемся на холодном ветру как две большие высохшие мочалки…
И я пошёл к отцу под навес, который стал для него и убежищем, и уютным гнёздышком. С тех пор как его вместе с другими водили напоказ толпе на рынке, с того дня, что стал памятной страницей в истории Гаоми, отец будто онемел и отупел. В свои сорок с небольшим он был почти седой. Волосы, изначально жёсткие, поседев, торчали как иглы у ежа. Вол стоял у кормушки, понурившись, далеко не величественный без половины рога. Голову его освещало солнце, и от печального взгляда хрустальных, с тёмно-фиолетовым отливом, глаз на душе становилось тяжело. Наш сильный и яростный по натуре вол стал совсем другим. Я знал, что такие глубокие изменения случаются с быками, когда их холостят, знал, что такое бывает с петухом, если его ощипать, но не думал, что вол может так сильно перемениться, потеряв рог. Вол глянул на меня, когда я вошёл, и тут же опустил взгляд — будто понял, что у меня на душе. Отец сидел на чурбане рядом с кормушкой, опершись спиной на мешок с сеном и спрятав руки в рукава куртки. Он дремал с закрытыми глазами. Под солнечными лучами седые волосы отливают красным, весь в соломинках, будто только что вылез из стога сена. Краска с лица почти исчезла, лишь кое-где оставались красные точки. Выделялась и синяя половина, цвет стал насыщенный, как индиго. Я пощупал собственное родимое пятно: будто трогаешь заскорузлую невыделанную кожу. Вот он, мой знак уродства. Когда меня звали «маленьким Синеликим» в детстве, я не стыдился, а гордился. А когда подрос, пусть бы кто попробовал назвать меня «Синеликим», получил бы по первое число. Ходили слухи, что мы и единоличники, потому что «Синеликие»; утверждали даже, что днём мы прячемся, а на работу выходим по ночам. Мы и правда пару раз работали при свете луны, но наши родимые пятна здесь ни при чём. Глупость это полная — связывать наши физические недостатки и единоличное ведение хозяйства, говорить, что из-за этого мы такие повёрнутые. Мы единоличники по убеждению, считаем, что имеем право на самостоятельность. Действия Цзиньлуна это моё убеждение пошатнули. По правде говоря, я с самого начала был не очень твёрд и пошёл за отцом, думая, что это будет интересно. Теперь же меня звал ещё больший интерес, гораздо более высокий. И конечно, перепугал рассказ брата о трагическом конце единоличников из уезда Пиннань, перед глазами так и стояли два этих сука абрикоса… Но ещё большую тревогу вызывали слова брата про женщин. Ведь точно, даже колченогая и кривая не пойдёт за единоличника. Да ещё за «синеликого». Я уже сожалел, что пошёл за отцом, даже начинал ненавидеть его за то, что он всё это затеял. А на синее лицо отца смотрел с отвращением, явно ненавидя его за полученное по наследству. Такому человеку, как ты, отец, ни жениться не надо было, ни детей заводить!
— Отец! — громко воскликнул я. — Отец!
Он неторопливо открыл глаза и уставился на меня.
— Отец, я в коммуну вступить хочу!
Похоже, он давно догадался, зачем я пришёл, потому что на лице ничего не отразилось. Он достал из-за пазухи трубку, набил её, сунул в рот, высек кремнём искру на фитилёк из метёлок гаоляна и раздул её, чтобы прикурить. Потом глубоко затянулся, и из ноздрей поплыли струйки беловатого дыма.
— В коммуну хочу, давай вступим оба, вместе с волом… Не могу я больше…
Отец вдруг широко открыл глаза и, чётко выговаривая каждое слово, произнёс:
— Предатель ты! Хочешь вступать — вступай, но без меня и без вола!
— Но почему, отец? — воскликнул я, раздосадованный незаслуженной обидой. — Обстановка в Поднебесной уже такая, что когда всё только начиналось, в уезде Пиннань революционные массы подвесили единоличника на дереве и забили до смерти. Брат говорит, что, водя тебя по улице, ещё как бы покрывает тебя. Мол, разделавшись с помещиками, зажиточными крестьянами, контрреволюционерами, реакционными элементами и каппутистами, народ возьмётся за единоличников. Сказал, что два толстых сука на абрикосе для нас двоих и приготовлены. Слышишь, что говорю, отец!
Отец выбил трубку о подошву, встал, взял сито и принялся просеивать сено. Я смотрел на его сгорбленную спину, на крепкий загорелый загривок, и невольно вспомнилось детство, когда он сажал меня на шею и нёс на рынок покупать мне хурму. Сердце заныло, но я возбуждённо продолжал:
— Отец, всё вокруг меняется, начальника уезда Чэня скинули, начальника отдела, что выдал нам грамоту на единоличное хозяйство, наверняка тоже. Какой смысл единоличничать дальше? Если вступим в коммуну, пока Цзиньлун председателем, и его авторитет поднимется, и наш…
Отец возился с ситом и не обращал на меня внимания.
— Отец, — начал закипать я. — Неудивительно, что про тебя говорят, мол, как камень в нужнике — и вонючий, и твёрдый. Ты уж прости, но следовать за тобой в никуда, во мрак я не могу. Если тебе наплевать, придётся позаботиться о себе самому. Я уже взрослый, хочу вступить в коммуну, жениться и шагать по большому светлому пути. А ты как хочешь.
Отец бросил сито в кормушку и погладил вола по обрубку рога. Повернулся ко мне и абсолютно спокойно проговорил:
— Ты, Цзефан, мне родной, отец желает тебе добра. То, что творится вокруг, я прекрасно вижу. У этого негодяя Цзиньлуна сердце твёрже камня, и кровь у него в жилах поядовитее, чем хвост скорпиона. Ради этой своей «революции» он на всё пойдёт. — Отец поднял голову. — Как только мог хозяин, такой добродетельный, выродить такого бессердечного сына? — недоумевал он, щурясь от яркого солнца. И продолжал со слезами на глазах: — У нас три целых две десятых му земли, один и шесть десятых му можешь забирать в коммуну. Соху, этот «плод победы», что мне выделили в земельную реформу, тоже забирай, комнату тоже. Всё, что унесёшь, забирай. Хочешь жить с матерью — пожалуйста, нет — живи сам по себе. Мне ничего не надо, только вол и этот навес…
— Отец, но почему, в конце концов? — вскричал я, чуть не плача. — Какой тебе смысл оставаться одному?
— Никакого особого смысла нет, — спокойно отвечал он. — Просто хочу жить чистой и покойной жизнью и делать то, что считаю нужным. Не хочу, чтобы мной командовали!
Я пошёл к Цзиньлуну:
— Брат, поговорил вот с отцом, вступаю в коммуну.
Тот радостно сжал кулаки и ударил ими перед грудью:
— Отлично, великолепно, это ещё одно замечательное достижение «великой культурной революции»! Последний оставшийся единоличник в уезде, наконец, вступает на путь социализма. Прекрасная новость, сообщим об этом в уездный ревком!
— Но отец не вступает, один я с одним и шестью десятыми му земли, сохой и сеялкой.
— Как это? — помрачнел Цзиньлун. — Что он вообще собирается делать?
— Говорит, ничего. Мол, привык жить тихо и спокойно и не хочет, чтобы им кто-то командовал.
— Но ведь надо какой сукин сын! — Брат жахнул кулаком по старому столу так, что чуть тушечница не слетела.
— Ну, не расстраивайся так, Цзиньлун, — пыталась успокоить его Хучжу.
— Как тут не расстраиваться? — снизил тон Цзиньлун. — Я хотел к Празднику весны приготовить богатые подарки для зампредседателя Чана и всего уездного ревкома: первый — это постановка у нас в деревне пьесы «Красный фонарь», второе — ликвидация последнего в уезде, а может, и во всей провинции или во всём Китае, единоличника. Сделать то, что не удалось Хун Тайюэ, и таким образом безгранично укрепить свой авторитет. Но если ты вступаешь, а он нет, всё равно один единоличник остаётся! Нет, так не пойдёт, а ну пойдём, я с ним поговорю!
И он ворвался под навес, куда не ступал уже много лет.
— Отец, — начал он. — Хоть ты и не достоин, чтобы тебя так называли, но я всё же обращусь к тебе так.