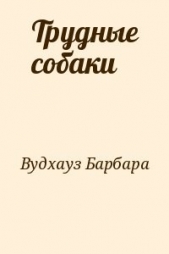Стрекоза, увеличенная до размеров собаки

Стрекоза, увеличенная до размеров собаки читать книгу онлайн
В России, где мужчины из поколения в поколение гибли в войнах, пропадали в ссылках и тюрьмах, спивались, чисто женская семья — явление обыденное, но от этого не менее трагическое. Роман молодой уральской писательницы Ольги Славниковой посвящен истории взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе. Шаг за шагом повествование вводит нас в `тихий ужас` повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. И дело здесь не только и не столько в бытовых условиях, мешающих обустроить личную жизнь двух женщин. В фатальное противоречие вступают мысли и чувства, но эта борьба искусно замаскирована флером внешних приличий. И лишь пристальный взгляд способен увидеть истинное положение вещей. Так хорошенькая безобидная стрекоза под беспристрастной оптикой превращается в страшного прожорливого хищника…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это твое, стоит только купить билет, — а можно и не покупать, только перемигнуться с проводницей подходящего возраста: не молоденькой и злой, в пережженных кудерьках, а так постарше, чтоб с понятием и жалостью, со складочками под низкой попой, — и ехать, ехать, куда везет паровоз; днем шуровать в вагонной нарошечной печке, солидно покуривать в тамбуре, где лязгает шибче и хлещет на шпалы водой, а ночью лежать вдвоем на узенькой полке, на боку у стены, под ихним сыроватым, как снег, бельем, чувствуя рядом как бы сидящее у тебя на согнутых коленях разморенное бабье тело, легчающее вдруг вместе с ускользанием отсветов по дико угловатому потолку служебного купе. Надо так уснуть, чтобы женщину не утянуло, как тянет море всякую всячину над глухо бормочущим берегом, чтобы она не растаяла в наплыве дремоты, была и там, по ту сторону подмывающей кромки сна. Но сон никак не настает — коснется и отступит; два тела, запутанные в простыне, качаются не в такт, и внезапно женщины уже нет в объятиях, как нет онемелой руки, и просыпаешься, обрубок, в поту и ужасе оттого, что не было больно. На столике у поднятой головы все так же диковинно, прозрачно, валко, как и снаружи, где проходит станция; за что ни возьмись, все плавно пестрит и играет вместе с рукой, зеленоватой от наружных фонарей. Глотаешь воду из непроглядной темноты эмалированной кружки, покусываешь цепочку на сладкой женской шее в дорожной крошке от угля, вспоминаешь вдруг, как хотел уехать от жены на трамвае и ждал незнакомого номера, чтобы завез в неизвестное место.
А утром снова играет радио, и патлатая сменщица-лиса бросает завистливые взгляды на нее, хорошую, с такими, как он любит, ребячьими пухлыми складками на зрелом бабьем теле, с конфетой сережки в розовой мочке уха, в свежей форменной блузке, где грудь ее темнеет на просвет, будто клубничина в молоке. Поезд стучит, строчит, сшивает два больших куска пространства, и никогда не успеваешь заметить, совпала ли сама с собой сквозная, трогательно скудная, березовая роща, или мягкая болотина с черными шаткими лесинами, или присыпанная синим гравием дорога у шлагбаума, — с той, что бежит под насыпью, сгорая под невозможным солнцем, валяя так и этак дымящийся горбатый «москвичок». Поезд стачивает пространство лицо к лицу, и только в преддверии города шов выворачивается наизнанку: дома норовят обратиться глухими торцами тюремного кирпича, из-за плотного забора вздымается перекрестьем балок на стальном листе какая-то наглядная агитация, могучая, будто ворота цеха; под откосом ржавеет кроватная сетка, дырявая, как рыжее вязанье, проеденное молью; две беленые чаши с настурциями в соседстве поля одуванчиков и горячих рельсов выглядят остатками лучшей жизни, виденной в старом кино. Никогда, никогда не покажется город в окна вагона таким, каким он известен или даже знаменит, только разрастается вокруг глухое громыхающее железнодорожное хозяйство да химерой крашеного гипса проплывет вокзал. Вот почему так тягостно было приезжать на поезде в большие города, где Иван оказывался всякий раз с неизбежностью рока.
Кто бы мог обвинить его в обмане, в нелюбви? Если Иван прилеплялся к женщине, хорошо его кормившей и жадной до него в кровати, все другие, а особенно ее подружки, становились буквально его врагами, в которых он видел одни недостатки: наглость, крапивный пушок на худых ногах, болгарские сигаретки с фильтром, — и если он и хотел отделать их в ужимчивые задницы, то исключительно для того, чтобы как следует проучить. Он все время пререкался с ними, пытаясь им внушить, какой должна быть настоящая баба, но в ответ на его замечания они либо заводили глазки под утлые лобики, либо принимались смеяться и наступать ему на обе ноги сырыми ступнями в давленой ягоде мозолей. Он нуждался в защите от них — были такие принципиальные, что требовали от него документов, будто милиция, — и находил покровительство у своей, готовой его спасать от целой бабьей половины человеческого рода.
Однако он помнил и прежних, тоже хороших, — помнил даже законную жену, бесчувственную колоду, с самого начала бывшую врагом. Уж эта была принципиальней всех: прихромала за ним на трамвайную остановку, пузатая, несчастная, с фатой в кармане пальто, а после не далась всего лишь потому, что на полу спокойно спали брат с приятелем. Разве они бы проснулись, сморенные дорогой, а после водкой, если бы жена не стала пихаться и шипеть? Но она устроила целую войну и билась в простынях, будто псих в смирительной рубашке, пока не столкнула Ивана на пол и не выставила перед братом совершенным дураком, разрисованным ее помадой, — не любовно, округло-рябенько, а сикось-накось, будто сочинение на двойку. Зачем тогда приходила, зачем возникла из полного покоя, где все стояло так красиво и было отпечатано тенями на земле, — малейший сучок и самый невидный провод имели точное место на этом документе, по которому вообще нельзя было ступать, а можно было только уехать по проложенным путям, — зачем сидела и плакала, заглядывая снизу полусмытыми страшными глазами, так что Ивану казалось, будто сквозь них непонятным усилием смотрит его нерожденный пацан?
Жена еще и потому была врагом, что рядом жила другая, худая и цепкая, будто мышеловка, всегда забывавшая снять профессорские очки. Но перед ней Иван — очень редко и совершенно внезапно — испытывал минуты такой большой и сладостной робости, что для добывания этих минут готов был проводить около нее сколько угодно свободных и ворованных часов. Но он не знал, что надо делать, как добывать: порой терял поплывшую душу, когда подруга прибирала стрижку и задевала очки расческой — замирала смешная, со скошенными глазами, неспособная расцепить сооружение на удивленном лице, — или когда сидела за роялем и вдруг становилась похожа на мать Ивана во время дойки коровы: округлый затылок, подвижные лопатки, — а то приподнимет руки, и будто ей не продохнуть. Иногда Иван просил ее повторить — не музыку, от которой у него голова играла будто радио, а самое мгновение, все до мелких подробностей. Он гонял ее и орал на нее, что выходит не так, доводил ее и себя до кругов под глазами и обоюдной нескладности, когда они не могли коснуться друг друга, не уронив при этом какую-нибудь из ее простых, как печатные буквы, вещей, — но внезапно она, забывшись, делала что-нибудь сама, и Иван, счастливый, бежал курить к своей хрустальной пепельнице в туалете, которую она поставила ему там на октябрьские праздники.
После Иван, как мог, заботился о том, чтобы две квартиры не смешивались в его подточенной памяти, чтобы никаких улик не попало в правую, якобы его настоящую, из левой, полной обоюдных подарков (на Новый год она подарила ему свой свежепротертый, освобожденный от нотных кип сияющий рояль, оказавшийся вдруг огромным и прекрасным, и Иван почувствовал, что обладание черным зеркальным гигантом в чем-то сходно с обладанием ею самой, что он не умеет с нею чего-то главного и может только отражаться, не совсем узнавая себя, будто он какой-нибудь профессор консерватории или артист). Левую квартиру Иван успел узнать гораздо меньше, он оттягивал ее обживание, как зек, осужденный на годы крытой тюрьмы, не торопится сразу освоить камеру и начинает с одного угла, чтобы хватило хотя бы на первые несколько месяцев. Потому Иван не спешил; разбираться в посуде и шкафах (если что-то было надо, брал попавшееся под руку) — но он чуял там тайники и догадывался, что эта прорва способна буквально всосать обстановку его незаконного счастья. Нередко он заставал жену прилепившейся к зеленой стенке, разделяющей квартиры, — толстенькую и невинную, будто жук-вредитель на листе, — ужасно боялся, что она просто изгрызет преграду в кружево и вот-вот прорежет первую округлую дыру. Особенно его бесили пятна зеленого мела, что оставались у жены на животе, плече и даже в волосах, — она будто красила себя в цвет своего отчаяния, физически сливалась с бедой, в которой жила, — и все это специально для него, Ивана, чтобы он усовестился и сотворил ей жизнь, какую она хотела: спать под ручку в разных подоткнутых одеялах, а днем зарабатывать грамоты. Тогда он мог за шкирку оттащить ее от стены, затолкать на кухню (при этом никогда не бил), — теперь же он защищал свою подругу от жены единственно усилием памяти, частенько его подводившей.