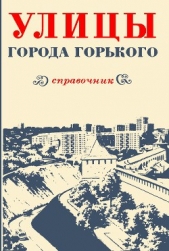Завещание убитого еврейского поэта

Завещание убитого еврейского поэта читать книгу онлайн
Роман известного писателя, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля рассказывает о почти неизвестном еврейском поэте. Сменив веру своих предков на веру в коммунистические идеалы, он в конце концов оказывается в застенках советской тюрьмы в разгар «борьбы с космополитизмом». Несмотря на хрупкий и нервный характер, поэт выдержал все пытки и никого не предал. Однако следователь находит способ заставить его разговориться: он предлагает заключенному написать воспоминания…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я и так слишком много чего рассказал. А уверен я, что матрос работает на нас? Что, если он доносит другой стороне? Его французский показался мне неродным. Правда, и мой — тоже не слишком-то родной, но все же… Не немец ли он? Я прикусил язык: море слишком быстро смыло следы моего подпольного опыта. И я замолчал. Матрос (друг? враг?) собрался уходить.
— Один совет, — сказал он, приостановившись на пороге каюты.
— Да?
— Чем меньше вы станете говорить, тем лучше вам там будет.
Нет, он не из гестапо. Нет, он не желает мне зла. Но, уточняет он, лучше не упоминать о бывших знакомых, о случаях из прошлой жизни. В нынешних обстоятельствах прошлое — очень неудобная вещь. Я последовал его советам. На вопросы, которые мне задавали по приезде, я отвечал, что не знаю никого в Советской России: ничьих братьев или друзей. Почему я решил жить здесь? Очень просто: меня выдворили из Франции, и я не знал, куда податься. В Румынию? Там меня считали дезертиром. Моя прямота подействовала лучше страстных объяснений в любви к новому отечеству. Меня поздравляют с прибытием. Меняют на рубли франки и голландские кроны, которые у меня были.
И вот я дома, в стране лишенных отечества. Я вышел из порта и пошел к центру города, преследуемый воспоминаниями о колоритных и притягательных персонажах Исаака Бабеля: о живописной Одессе с ее сентиментальным блатным миром, человеческой реке, которая течет, течет, но не к морю, а к смерти.
Я сел в трамвай и поехал в торговые кварталы. У кондуктора я спросил: «Отель?», но он не понимал французского и ответил по-русски. А русского не понимал уже я, поэтому он перешел на немецкий, и тут мы смогли договориться: «Вон там, за магазином, маленький скверик, за ним — недорогая гостиница».
Хорошо ли я сделал, что приехал? Идя по холодным улицам, оглядывая фасады домов, я повторяю про себя, что отправился по дороге, ведущей в один конец. Возврата нет. Разрыв с прошлой жизнью слишком жесток. Что со мной будет? Я хочу пить и есть… Не знаю, что готовит мне будущее и есть ли у меня таковое. Спрашиваю себя, может ли прошлое, оставленное с той стороны, получить здесь новое продолжение? Вспоминаю о Белеве и детстве. О погроме, о погребе, о страхе и тоске. А еще — о Льянове и тамошних друзьях, об Эфраиме. Представляю, что он очутился там, где хотел, в стране своей мечты. Вижу вновь Ингу и Трауба, они идут рядом со мной по улице. В мозгу вновь проносится вся прошлая жизнь. Как если бы я шагал впереди смерти. Я цепляюсь за прошлое, боюсь, что оно ускользнет, впиваюсь в него, чтобы не сползти куда-то в черную яму, на моих глазах растущую вширь и вглубь, поглощая молчаливых друзей былых лет. Мне уже понятно, что однажды я сам туда соскользну вслед за ними, я упаду, не моя вина, что я тащу этот чемодан. Не моя, что я выбрал эту дорогу, а не другую. Чего здесь больше: случая или фатальности? Все дороги моего прошлого ведут в Одессу. А счастлив ли Бог в Одессе?
Я поставил чемодан на землю. Перевел дух. Гостиница недалеко. Смелее! Чем набит проклятый чемодан, почему он так тяжел? Личные вещи. Несколько прозаических текстов. Филактерии в маленькой синей торбе. Кое-какие стихи. Слова.
В них — вся моя жизнь.
Скорчившаяся, заваленная снегом Москва куталась, чтобы уберечь тепло. Парализованные морозом, большие улицы не пропускали никого, кроме отдельных пешеходов, возвращавшихся с работы. Время от времени проезжали сани, влекомые маленькими сибирскими лошадками. Из своего окна на втором этаже я смотрел на снег, падавший с низкого серого неба.
Я уже жил в Советской России несколько недель, но чувствовал себя на отшибе, словно на полях повести о собственной жизни. Ни одного письма от родителей и друзей. Льянов и Париж принадлежали другому миру.
Выходил я мало. Я населял свою комнату прежними знакомыми. Их мне не хватало. Я не осмеливался в этом никому признаться: ностальгия не входит в число пролетарских добродетелей, ответили бы мне. К тому же вокруг не было никого, кому бы я доверял.
В секцию еврейских писателей я записался по приезде. Там меня встретили дружески. Некоторые мои стихи из «Листка» здесь были известны. Кое-что даже перевели и напечатали в их ежемесячнике. Мне наговорили уйму приятных вещей, задали невероятно много вопросов о таком-то и таком-то. Я отвечал, как мог. Да, Пинскер живет хорошо. Да, Швебер хорошо работает. Да, его хвалы по адресу русской политической системы привлекают внимание читателей… У меня же был всего один вопрос: что я должен делать, чтобы получить работу?
— Подождите, — отвечали мне. — Первое, чему вы должны научиться, это умению ждать. Терпение!
— А я-то думал, что на родине революции люди должны разучиться ждать, — смеясь отвечал я.
В ответ мне сказали, что я напрасно издеваюсь над революцией. Я понял, что дважды повторять такое здесь не будут.
От моего визита в секцию у меня осталось тяжелое впечатление. Издалека я видел великих: Михоэлса, Маркиша, Дер Нистера, я жал руку Кульбаку, Квитко, Гохштейну. Я знал их произведения, и я ими восхищался, более того, я испытывал к ним уважительную нежность: они были старше меня. Но грустно: у них был вид людей в намордниках, пытавшихся это скрыть. Они здоровались, друг другу улыбались, выдавливали несколько слов о том или ином романе или очерке, но сердце у них ко всему этому не лежало.
Тяжелые взгляды из-под набрякших век, долгие паузы, необъяснимо беспокойные движения. Эти писатели и поэты, одни из величайших, боялись звука и света. Я понял чуть позже: то было следствие пакта с Гитлером. В Москве царило странное умонастроение: евреи инстинктивно начали говорить потише, чтобы не быть такими заметными. Они оставались в кулисах, чтобы Молотов не слишком стеснялся. Уход Литвинова из Комиссариата иностранных дел истолковали в нашей секции как предупреждение всем евреям: надо, чтобы в их душе угасла ненависть к нацистам. Дело государственное: дьявол — уже не враг, но союзник. Евреи всех уровней власти как-то вдруг съежились, они не должны были появляться на публике, чтобы не оскорбить тонкого вкуса достойных визитеров из Берлина. Им предписывалось раствориться в темноте, их уже не брали в расчет. Их мнения, опасения, чувства и сама жизнь уже не много весили на исторических весах. Если бы Гитлер потребовал депортации в Сибирь миллиона евреев, его предложение изучили бы с самой серьезной основательностью, и не думаю, чтобы отклонили. В Москве мои старшие товарищи это знали лучше, чем я.
В секции никто об этом не говорил, даже шепотом. В еврейском театре, в ресторане — тем более. По крайней мере, в моем присутствии.
Может, между собой, вдали от посторонних, они еще чувствовали себя свободными. Мне это неизвестно, одно я знаю точно: в их речах не было политики. Они укрывались в распустившейся пышным цветом литературе о колхозах, вспаханных землях и девственных лесах. Я спрашивал одного из них (имя его не открою, гражданин следователь: он еще жив) по поводу этой бессознательной позиции наших известных интеллектуалов.
— В Париже, — напоминал я ему, — мы сражались, мы с утра до вечера обличали нацизм в журналах, в речах — и все это во имя коммунистической революции. А здесь вы молчите! Не понимаю!
Мой собеседник в ужасе прошептал:
— Прошу вас, перемените тему!
— Но почему?
— Вы только что приехали, вы не можете понять.
А его коллега добавил:
— Мы с вами не в ешиве, молодой человек. Здесь Талмуда не изучали. И не всякий имеет право на толкование. Не заставляйте нас выслушивать то, что не следует слышать.
А третий дошел до угрозы:
— Ворчать — это критиковать партию и ее славного вождя. Тут рискуешь дорого заплатить.
И все стали повторять, что я чего-то не понимаю. Они были правы: я не понимал. Я думал об Инге и ее подпольной борьбе, о Пауле и его команде: они старались мобилизовать свободный мир на борьбу против нацизма. Нет, я не понимал, почему вне той территории, что еще не была нацифицированна, только русская пресса не боролась с нацистской чумой. Я заболевал от этого. Однажды, не имея уже сил сдержать свое расстройство, я упомянул об этом при Гранеке, великолепном переводчике Вергилия. Мягкий, собранный, чудовищно робкий (еще больше, нежели я), он даже поднял руку, словно хотел меня оттолкнуть: