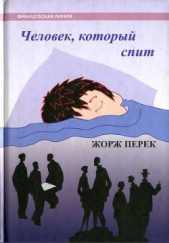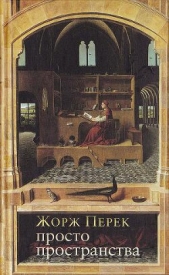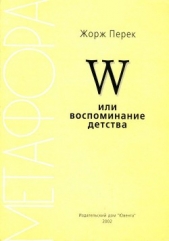Исчезание

Исчезание читать книгу онлайн
Культовый роман Жоржа Перека (1936–1982) — это не только детективный сюжет, авантюрные приключения и странное исчезновение персонажей. Это не только история Мести, грозно нависающей над целым Кланом и безжалостно истребляющей всех его членов. Это не только сила Проклятия, довлеющая над речью палачей и жертв. Здесь раскрывается гигантская метафора утраты; сплетается фантастический рассказ о том, чему нет названия, пытливый пересказ того, что нельзя описать и о чем страшно даже подумать. Дерзкий вызов традиции, скандальный триумф приема и погружение в головокружительную игру со словом, языком и литературой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как будто писатель снова и снова хочет вернуться к началу, чтобы связать себя с прошлым и уже оттуда протянуть, продлить нить собственного существования. Но искомое начало недостижимо, так что он не в силах не только продолжить, но даже начать. «Перед нами, — замечает по поводу „Мест тридцатилетия“ работавший с ними в архиве исследователь, — не рождение книги, а ее агония» (Lejeune, 24). Рассказчик не может приняться за повествование, не отославшись к детству, родителям и предкам, однако его с ними не связывает ничто, кроме самой этой настойчивой воли установить связь. «<…> Я не говорю на языке, на котором говорили мои родители, у меня нет ни одного из воспоминаний, которые могли быть у них, ничего того, что им принадлежало, что делало их ими, — свою историю, свою культуру, свою надежду они мне не передали» [22]. Если сама мысль о писании неотъемлема для Перека от самоописания, то всякая попытка описать себя нерасторжима для него с констатацией разрыва преемственности — линии родства, традиций, языка: «Я мог бы, как мои близкие или далекие двоюродные братья, родиться в Хайфе, Балтиморе, Ванкувере, мог быть аргентинцем, австралийцем, англичанином или шведом, но изо всего этого почти безграничного веера возможностей для меня навсегда заказана одна — возможность родиться в стране моих предков, в Любартове или Варшаве, и вырасти там в непрерывности традиции, языка, принадлежности к своим» [23].
В беседе с Переком внимательная исследовательница его прозы предложила писателю прокомментировать следующий пассаж из письма Кафки Милене: «Мы с тобой оба немало знаем характерных экземпляров западноевропейских евреев, но я, насколько мне известно, самый из них западный, это означает, если несколько выспренне выразиться, что мне не даровано судьбой ни секунды покоя, ничего мне не даровано, всего я должен добиваться, не только настоящего и будущего, но даже и прошлого; уж прошлое-то человек, наверное, получает в наследство, а я и его должен добиваться, и это, может быть, наитягчайший труд <…>» [24]. Перек целиком согласился для себя с таким диагнозом и добавил: «У меня нет ни дома, ни семьи, у меня и крыши-то над головой нет <…> у меня нет корней, я о них ничего не знаю <…> И с помощью письма я хочу проложить след у себя в памяти» [25].
Вообще-то у него нет даже унаследованной от родителей фамилии [26]. История «пошутила» с ребенком Переком в духе тех языковых игр, которым он сам потом всю жизнь предавался. Фамилия отца, Перец, была записана в его документах еще в польской транскрипции — Perec, но во Франции ей предстояло быть прочитанной по-французски. По воле отца, не совсем освоившегося с тонкостями французского, она стала звучать как Перек, что, строго говоря, неточно: для такого звучания необходимо «закрытое» первое «е», то есть либо соответствующий accent (Peréc), либо, как у бретонцев, удвоенное «г» (Реггес). Получилось же ни то, ни другое, и носителю фамилии то и дело приходилось поправлять тех, кто «правильно», «по-французски», произносил ее с письма — Пёрéк. То есть приходилось снова и снова называть себя, скажем так, несуществующим именем, озвучивая отсутствующую на письме, но долженствующую быть букву. Отмечу этот зазор между письменным и устным, как и одержимость буквой «Е», которая проходит через все написанное Переком — от романа-липограммы «Исчезание», где она в тексте отсутствует, а ее отсутствие движет сюжетом, через моновокальный роман «Преведение», где из всех гласных букв используется, напротив, только она, к загадочному посвящению повести «W» «а Е», что можно понимать как инициал имен близких («Эстер», «Эла»), первую букву местоимения «elle», «ей», заменяющего непроизносимое слово «маме», либо, если прочитать написанное вслух, — как омофон местоимения «еuх», «им», то есть, погибшим родным и вообще евреям Европы, уничтоженным Шоа. Возможно, в эту игру входит и знаменитое французское «Е muet», «немое, или непроизносимое, Е», которое в большинстве случаев существует как будто лишь на письме, но без которого был бы невозможен в произнесении французский стих, песня и т. п.
Наконец, у писателя Перека нет даже простого умения писать: он с детства, и очень долго, страдал дислексией и аграфией. Вообще проблема связности, последовательности, целостности написанного оставалась для него травматической всю жизнь. Таковы его детские каракули и рисунки, но таковы и его воспоминания: «<…> беглые или стойкие, ничтожные или неотступные, воспоминания существуют, но ничто не сплачивает их в одно. Они напоминают то бессвязное письмо из отдельных букв, неспособных соединиться друг с другом и составить слово, которым я только и владел до семнадцати-восемнадцати лет, или те обрывочные, разрозненные рисунки, отдельные части которых почти никогда не сливались и которыми <…> я в возрасте примерно между 11 и 15 годами испещрял целые тетради. Что прежде всего характерно для той-эпохи — это отсутствие опор» (W, 93) [27].
Обрывок, обломок, одиночная запись, номенклатурный перечень увиденного или припомненного, монтаж разрозненного — такова сама паратаксическая манера Перека думать и писать, которой, в конце концов, придано качество жанра. Таков его фрагментирующий подход к языку, к любому связному тексту (от отдельного слова до целого романа Стендаля или Жюля Верна, Флобера или Русселя, либо до фильма Эйзенштейна или Вайды): они в порядке игры демонтируются на части вплоть до мельчайших — слогов, звуков или букв, из которых затем наново собирается нечто иное. Таково его бытовое коллекционерство обожателя барахолок, транспонированное, начиная с дебютного романа «Вещи», в настойчивый повествовательный шозизм. Такова его страсть к фотографиям вещей, интерьеров, городских видов. Сделаны ли они самим писателем или друзьями по его заказу, под его замыслы, фото, как правило, дотошно фиксируют места и следы жизни людей, но чаще всего поражают отсутствием самого человека, ощущением заброшенности и, как ни странно выглядит это слово применительно к вещам, одиночеством: даже самые обиходные подробности здесь как будто уже помещены в рамку утраты. Особенно выразительны в этом плане фотозаготовки тунисского эпизода к экранизации (несостоявшейся) романа «Вещи», к замыслу «Места», а также фотоматериал к фильму «Рассказы об Эллис-Айленд» и фотоиллюстрации Кристины Липинской к автобиографической книге «гетерограмматических стихотворений» Перека «Закрыто» («La Cloture», 1976; речь идет о местах в Париже, которых больше нет и которые заслонены позднейшими постройками или скрыты позднейшими строительными заплатами).
Исследователи предметного воображения в литературе интерпретируют подобные особенности оптики как симптомы аутизма [28]. Свою трактовку связи между названными мотивами — поглощенности поисками места, нагромождения разрозненных вещей и общей безлюдности мира — предложил психоаналитик Жан-Батист Понтали. Он буквально по живым следам описал «случай» Жоржа Перека под анаграмматическим именем Пьера Ж. Память его пациента «стремилась перенестись в те или иные места, углубиться в них, одержимая страстью захватить их врасплох, как падкий до сенсаций фотограф или бдительный судебный исполнитель. Пьер описывал улицы, на которых жил, каморки, в которых обитал, узор их обоев, рисунок оконной решетки, расположение мебели, форму дверной ручки, а во мне от его маниакальной инвентаризации, бесконечного перечисления, которое не должно было упустить ни единой мелочи, рождалось острое чувство пустоты. Каморки, которые перечислял Пьер: чем теснее они у меня на глазах наполнялись вещами, тем более нежилыми они мне виделись; чем точнее делалась топография, тем шире разрасталось запустение; чем больше названий появлялось на карте, тем безгласнее она становилась. Там никого не было <…> Мать Перека погибла в газовой камере. И за всеми этими пустыми каморками, которые он без конца наполнял, стояла та камера. За всеми названиями — не называемое. За всеми реликвиями — потерянная мать, от которой в памяти не осталось ни черты <…>» [29]. Добавлю, что заветного, искомого писателем места — могилы его матери, бесследно исчезнувшей в Освенциме, — не существует, как не существует на земле и места ее рождения: ни малейших примет жизни своих родителей Перек в Польше не обнаружил. И они сами, и воплощенная — вещная ли, словесная ли — память об их существовании начисто стерты историей XX века.