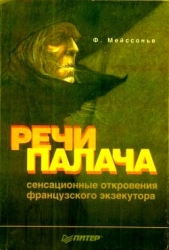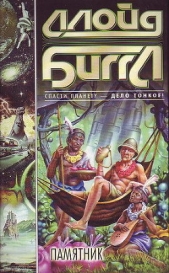Евангелие от палача

Евангелие от палача читать книгу онлайн
Роман «Евангелие от палача» — вторая часть дилогии (первая — роман «Петля и камень…» — была опубликована в конце 1990 года), написанной в 1976–1980 гг. Написанной и надежно укрытой от бдительного «ока государева» до лучших времен.
"Мы, кажется, уже привыкли к тому, что из глубин советского безвременья нет-нет, да и всплывет очередной литературный «памятник» — сталинской ли, хрущевской или брежневской эпохи…
«Памятник», лишь за чтение которого читатель мог тогда поплатиться свободой; ну а писатель ставил на карту всю жизнь. Сейчас эти открытия закономерны: перестроечной революцией нарушена омерта всеобщего покорного безмолвия, и благодарный читатель получает, наконец, то, что у него долгие десятилетия силой отнимал тоталитаризм. Предлагаемый сегодня роман «Евангелие от палача» — вторая чисть дилогии (первая — роман "Петля и камень… " — была опубликована в конце 1990 года), написанной нами в 1976-1980 годах. Написанной и — надежно укрытой от бдительного «ока государства» до лучших времен. К счастью, и авторы, и читатели до них дожили. Все остальное — в самом романе.
Аркадий ВАЙНЕР, Георгий ВАЙНЕР
Декабрь 1990 года МОСКВА
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всё! Всё! Пора выгнаиваться из дома, прочь отсюда, надо на улицу скорее, на воздух, может быть, там я продышусь немного, обмякнет давящая боль в груди, может, сникнет немного и подвянет стальная серозная фасолина в средостении.
Ах, как нужен мне сейчас стакан настоящей выпивки! Не газированной сладкой шипучки из зеленого пеногона, а настоящего горючего — водки, коньяка, виски, рома! Нету. Дома пустыня. Завал импортных товаров, а выпивки — ни капли.
Интересно, куда дели ром, в котором везли на родину Нельсона? Огромная бочка ямайского рома, в которую погрузили убиенного при Трафальгаре адмирала.
Столько выпивки не пожалели, чтобы не протух одноглазый дедушка на долгом пути к их туманному Альбиону. Господи, неужто вылили потом весь ром?
Наверняка вылили, сволочи, знаю я их буржуйскую брезгливость. Мы бы не вылили, мы бы выпили. Мы от дорогих покойников не брезгуем. Словно к материнской титьке, припал бы сейчас к нельсоновской настоечке: пока до гланд не насосался бы, не отвалился бы замертво, полный благодарной памяти спасителю отечества. Еще немного дотерпеть — до бара «Советской». Спуск в лифте, короткий быстрый проезд на «мерседесе», мраморный вестибюль — порт приписки адмирала Ковшука, розовый полумрак бара — и живая струйка рома, текущая по иссохшей трубке пищевода прямо в желудочек моего исстрадавшегося сердца! — Марина! — крикнул я сквозь притворенную на кухню дверь. — Если будут звонить со службы, скажи, что я в Союзе писателей на совещании. А если позвонят из Союза, сообщи им, что я выступаю на телевидении… Она вынырнула из кухни мгновенно, как кукушка из часов. Пламенело злобой лицо, бурый румянец осатанелости тяжело лег на скулы. Ей-ей, волосы дымились рыжеватым пламенем, и слова вылетали сквозь щелку между передними зубами, как плевки кипящей желтой смолы:
— А если с телевидения спросят? Передать, что ты пошел к своим проституткам?!
— Придурочная моя! Цветочек мой малоумный, что ты несешь? Я же при тебе с Майкой договаривался…
Она завизжала яростно, и ненависть стерла смысл ее крика, как радиоглушилка растирает в бессловесный сердитый гул «Голос Америки». А я смотрел в ее пылающее лицо и чувствовал к ней острое желание. Это было какое-то неожиданное темное, глухое некрофильское чувство, идущее, наверное, из надпочечников, отвратительное и непреоборимое, соединенное с самыми забытыми, самыми дальними тайниками памяти смутной тьмой подсознания. Оно уже взрастило однажды в моей груди зеленовато-серую фасольку Тумор. Я это чувство знал, я помнил его туманно — оно вошло в меня когда-то давно, на короткий миг, четкий, отдельно живущий, ясный, тот самый миг, когда я догадался, что коитус и убийство — не начальная и конечная риски на прямой линии жизни, а смыкающиеся точки на окружности, чувственное подобие, эмоциональное наложение двух тождеств максимального ощущения собственной личности…
Незапамятно давно было.
А было ли?
Может, не было?
А только сон.
Или блазн.
Но, наверное, явь…
Перрон метро в Западном Берлине. Станция «Бранденбургские ворота». Следующая — «Черричек-пойнт», а там уже Берлин — наш. Станция «Фридрихштрассе», пересадка на «Александерплатц». Тогда было просто: сел в вагон у нас, а вылез — уже у них. Другой мир, звериный лик империализма скалится… Как хотела та женщина уйти от меня! Ее звали не то Кэртие, не то Кернис. Она не сразу поняла, что я за ней топаю, а когда догадалась — от испуга ополоумела.
Ей бы к английскому патрулю кинуться, к полицейскому в лапы нырнуть, а Кэртие не соображала — сама надеялась оторваться, все быстрее шла, мелькали красивые ладные икры из-под белого плаща, да сумку к груди сильнее прижимала. А мне уж не до сумки было, Бог с ней, с сумкой, — сама бы не ушла. Мне бы за это голову оторвали. Кернис все время оборачивалась, фиолетовым перепуганным глазом косила, прядь длинная выбилась из-под косынки, задыхалась, торопилась, почти бежала. И толчея, суета на перроне разделили нас на миг, потеряла она меня из виду, по ее спине было заметно, как передохнула она свободно, и, когда, пробуравив плотную мешанину тел у края платформы, я вынырнул снова рядом с Кэртие — свистнул пронзительно на другом конце перрона поезд, вырвавшийся на свет из черной кишки туннеля.
Кернис обернулась и увидела меня снова рядом и что-то попыталась сказать-крикнуть всем вплотную стоявшим людям, но страх смерти уже парализовал ее, только судорожно дергался рот, и ее хриплый английский шепот никто не услышал-грохотал и свистел подкатывающий поезд, электрическое чудовище визжало колодками тормозов и мелькало лобовыми огнями, оно уже было рядом, и Кэртие напряглась в надежде успеть прыгнуть, в открывающуюся дверь.
Но поезд к нам еще не подъехал. Он еще только приближался, метров пять осталось, и гнал он вполне прилично. А она оглянулась. И в то же мгновение я незаметно и очень резко ударил ее ногой под колени — толчок такой «подсед» называется — и еле-еле подпихнул ее надломившееся тело к краю платформы, навстречу быстро подкатывающемуся металлическому лязгу. Летела Кэртие под поезд бесконечно долго, будто в воде плавно переворачивалась. Я видел ее постепенно запрокидывающееся лицо, повисшее над рельсовой бездной, черные спутанные воло-сы, парусящий куполом белый плащ, почти вертикально воздетые ноги, ослепительную белизну бедер над бежевыми чулками и оторвавшуюся набойку на одной туфле. И испытывал к ней в этот миг нечеловеческой силы желание, небывалое море похоти затопило меня, пока взрыв этих чувств не стерли короткий булькающий хрип, тупой чвакающий удар, остервенелое шипение и замирающий стальной визг. Секунда тишины, крик, вопли, ошалевшие лица, людской водо-ворот, штопорный крутеж в толпе — и прохлада улицы, огромная опустошенность отвалившихся друг от друга любовников… Блазн? Сон? Кэртие — была ли ты в яви? Или ту, из метро, звали Кернис?
Господи, зачем так прихотливо вяжешь запутанную нить моей жизни? Почему Ты на платформе метро «Бранденбургские ворота» свел меня с Кэртис, дав с ней, а не с Мариной волшебную сладость глубочайшего соития — убийства? Может быть, потому, что Марина ходила тогда в детский сад? А детьми я не интересуюсь.
Мои дети интересуются мной — дочурка Майка и зятек Магнуст. Ох, как хочется маленькому Магнусту вцепиться мне в шею, сжать посильнее, рвануть кожу, ужевать у горла еще кусок, натянуть крепче! Ну что ж, наверное, не надо мешать ему. Ведь он, глупый маленький зверь, смотрит на старую усталую кобру, Хваткин П. Е., и не знает, что у нее припрятан ржавый, но остро наточенный топор. А моей закаленной натруженной шее ничего не станется, опосля схватки отойдет. Тут, зятек мой дорогой, ошибочку вы давали: я не кобра. Я акула. Милая эта рыбешка всеядна, вечна и непобедима, потому что не чувствует боли. Избавил ее Создатель от этой слабости — не зная боли, акула в бою до последнего вдоха неукротима. Я — как акула. Не ведаю боли. Если только не прорастает в средостении фасолька но имени Тумор. Ну а так-то мне на боль плевать. Поскольку боль связана с любовью. Так же неразрывно, как убийство с коитусом. Ничего не поделаешь: обязательный ассортимент, как в нашем отделе заказов — шампанское с бельдюгой. Раз уж одарила природа людей радостным безумием любви, то и боль обязательно берите, дорогие граждане. А коли ты никого, да и себя самого, не любишь, то ты и боли не знаешь. Если не лопаются в груди жесткие колючие створки серозной фасоли. Эх, Мариша, вожделенная моя подружка, пропади ты пропадом, помчусь на встречу с глупым зверьком, не смекающим пока, что весь он состоит из чужой любви и собственной острой боли. Захлопнул дверь за собой и в лифт вскочил почти на ходу, как когда-то на подножку уезжающего трамвая. Пятнадцать этажей пролетел мой спускаемый аппарат, совершил мягкую посадку в заранее намеченной точке евразийской пустыни, населенной странным народом по имени «руссь», распахнулся шлюзовой люк, и коренное население в лице Тихона Иваныча торжественно встретило меня. Торжественно, но несколько печально. — Покойник в доме, — сделал он официальное сообщение. Все-таки общий развал дисциплины в державе и на нем, старой служивой собаке, сказался: знает ведь, сторожевой, что по уставу в рапорт по лагерю включаются не только умершие, но и направленные в больницу, и выведенные за зону на общие работы, но — ленится, конвойный пес, докладывать все, отделывается клубничкой. — Что — скоропостижно? Без причастия? — ахнул я. — Оне не причащаются, — треснул в улыбке подсохший струп ею рта. — Яврей из девяносто шестой квартиры, Гиршфельд им фамилия… И, не заметив во мне понимания, должной реакции, пояснил неспешно: