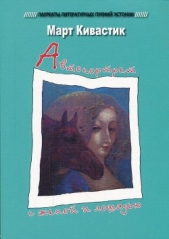Яков-лжец

Яков-лжец читать книгу онлайн
От издателя
«Яков-лжец» — первый и самый известный роман Юрека Бекера. Тема Холокоста естественна для писателя, чьи детские годы прошли в гетто и концлагерях. Это печальная и мудрая история о старом чудаке, попытавшемся облегчить участь своих товарищей по несчастью в польском гетто. Его маленькая ложь во спасение ничего не изменила, да и не могла изменить. Но она на короткое время подарила обреченным надежду…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну как ты считаешь?
— Если ты меня спрашиваешь, — говорит Ковальский, — я отвечу: много. Просто до нелепости много.
— Но есть границы.
— Конечно…
— Мне очень жаль, — повторяет Яков, — но я дошел до границы. Другой, может быть, пошел бы дальше, а я больше не могу.
— Что ты не можешь больше?
— Я не могу больше, — говорит Яков. Ковальский не настаивает на ответе, он не знает, что Яков готовится к безоговорочной капитуляции, к самому страшному из всех признаний. Он видит только его костистое лицо, которое тот подпирает руками, может быть, чуть бледнее обычного, может быть, чуть более усталое, но лицо того Якова, которого знаешь, как никого другого. Он встревожен, потому что такие приступы уныния совершенно несвойственны Якову, он бывает сварливым и раздражительным, но то совсем другое, тут есть разница. Никто не слышал, чтобы он жаловался, жалуются все другие. Яков был, можно сказать, всеобщий утешитель. Нередко к нему приходили, сознательно или бессознательно, чтобы поплакаться и набраться душевных сил. Еще до радио, собственно, еще даже до гетто. И когда кончался особенно унылый день, когда с утра до вечера простоишь у окна и напрасно высматриваешь клиентов, когда получаешь сумасшедший счет и ума не приложишь, где раздобыть денег, к кому приходишь вечером? К нему в кафе, и не потому, что водка у него особенно вкусная. Водка, как везде, к тому же у него не было на нее разрешения. К нему приходили потому, что после того, как посидишь у него, мир выглядел для тебя чуть-чуть веселее, потому что он умел сказать чуть убедительнее, чем другие: не унывай, все образуется или что-нибудь в этом роде. А может быть, потому, что он единственный среди немногих знакомых вообще считал нужным говорить человеку такие вещи. Ковальский его не торопит.
Тогда Яков начинает свое последнее из расточительно большого числа сообщений — вроде бы для Ковальского, потому что никого больше нет в комнате, но словами, с какими обращаются ко многим слушателям, иначе говоря, обращаясь к самому себе, в воздух, с огромной печалью в тихом голосе и бесконечной покорностью. Чтобы они, если слабые силы их им позволят, не сердились на него, у него нет никакого радио, нет и никогда не было. И он не знает, где стоят русские, может быть, они придут завтра, может быть, никогда, находятся они возле Прыи, или в Тоболине, или в Киеве, или в Полтаве, или еще гораздо дальше, может быть, их даже за это время окончательно разбили, и этого он не знает. Единственное, что он может сказать определенно, что тогда-то и тогда-то они вели бои за Безанику, откуда ему это точно известно — отдельная история, которая сегодня решительно никого не интересует, во всяком случае, это чистая правда. И что он хорошо понимает, как убьет их это признание, потому он еще раз просит снисхождения, он хотел сделать, как можно лучше, но планы его разбились.
Затем в комнате надолго устанавливается тишина, король отрекся от престола. Яков напрасно старается обнаружить движение на лице у Ковальского, тот смотрит сквозь него и сидит, как соляной столб. Конечно, Якова, как только отзвучали последние слова, начала мучить совесть, не из-за самого сообщения, его необходимо было сделать, это не терпело отлагательства. Но может быть, его можно было преподнести мягко, например приправив отступлением русских, не перекладывать сразу всю тяжесть на чужие плечи, которые не шире твоих. Был ли Ковальский, именно он, тем человеком, в присутствии которого должна была быть подведена последняя черта? Если бы он это услышал от чужого человека, не такого близкого Якову, он наверняка посчитал бы это ошибкой или злостной клеветой и после ночи сомнений сказал бы ему: «Слышал, что рассказывают эти идиоты? Что у тебя нет радио!» — «Это правда», — так ответил бы Яков, и этот ответ тоже ошеломил бы его, но, может быть, ему не было бы так больно, потому что в предбудущую ночь он уже взвешивал такую возможность. И все можно было бы обставить иначе, просто Ковальскому не повезло, что он зашел именно в этот вечер.
— Ты ничего не скажешь?
— А что я могу сказать?
Из непостижимых глубин Ковальский вызывает на лице улыбку, без этой улыбки он не был бы Ковальским, он опять смотрит на Якова, правда, глаза его улыбаются меньше, чем губы, но все же они оповещают, что не вовсе ушла надежда, они смотрят скорее хитро — как всегда; будто видят скрытый смысл вещей.
— Что мне сказать тебе, Яков? Я понимаю тебя, я тебя очень хорошо понимаю. Ты знаешь, я не похож на храбреца, скорее наоборот, мы достаточно давно знакомы. Если бы у меня здесь было радио, от меня, наверно, ни один человек не узнал бы ни слова. Или, что еще вероятнее, я бы его просто сжег от страха, не буду делать себя лучше, чем я есть. Снабжать новостями все гетто! На это я бы никогда не пошел, разве знаешь, что за люди тебя слушают? Если я кого-нибудь в жизни понимал, так это тебя сейчас.
Такого поворота мыслей Яков не ожидал, проницательный Ковальский превзошел самого себя, он построил свои расчеты там, где нечего было рассчитывать. Как его теперь убедить, что по крайней мере сейчас ты говоришь правду, самое большее, ты можешь ему предложить перетрясти все, что можно, во всех углах в комнате и в подвале. Но протянуть ему руки ладонями вверх и уверять: когда я врал тебе? — этого ты теперь уже не можешь. И если ты ему в самом деле предложишь искать во всех углах, все приемники, что ты у меня найдешь, будут твои, Ковальский, он понимающе подмигнет тебе и возразит что-нибудь вроде: бросим эти штучки, Яков, мы ведь знаем друг друга сорок лет! Он даст тебе понять, что с ним бесполезно играть в прятки, невозможное невозможно доказать ничем. Яков говорит испуганно:
— Ты мне не веришь?
— Веришь, не веришь, это все пустые слова, — говорит Ковальский тихо и отчужденнее, чем ожидал Яков, таким же тоном, как только что он сам произносил свою маленькую речь для всех. Больше он ничего не говорит, он выстукивает по столу грустный мотив и держит голову откинутой назад, погруженный в мысли, которыми не хочет делиться.
Яков прикидывает еще другие оправдания, важно, чтобы к нему проявили снисхождение, а для этого нужно объяснить причины — как он начал эту историю с радио и почему внезапно положил ей конец. Но насчет этого у него самого еще нет ясности, и, так как он понимает, что все это касается не только его, но и Ковальского, он молчит и откладывает просьбу о смягчающих обстоятельствах на более позднее время.
Потом ему приходит в голову отрезвляющее соображение, что дело вообще не в нем, нет в гетто человека менее важного, чем он без радио. Имеют значение только те, кто получал от него сведения, Ковальский наряду со многими другими. А они плюют на оправдания, пусть эти оправдания будут самые уважительные, у них другие заботы и отнюдь не маленькие, они хотят, например, знать, как развернутся дела после Прыи.
Ковальский больше не стучит по столу, он очнулся от раздумий, он встает, кладет Якову на плечо дружескую руку. И говорит:
— Не бойся, старина, насчет меня можешь быть уверен. Я не буду тебя больше спрашивать.
Он идет к двери, на лице его снова вспыхнула улыбка, и, прежде чем открыть дверь, он еще раз оборачивается, подмигивает, на этот раз действительно подмигивает двумя глазами:
— И я на тебя не сержусь.
И уходит.
На следующее утро, после самой бессонной ночи за многие месяцы, Яков направляется на работу. Прежде чем выйти на улицу, он потихоньку нажимает дверную ручку в квартире Киршбаумов, зачем, неизвестно, но дверь не открылась. Сосед Горовиц застал его возле безмолвной замочной скважины и спросил:
— Вы здесь что-то ищете?
Конечно, Яков ничего определенного там не искал, просто так, из человеческого любопытства, он объяснил это Горовицу в кратких словах и вышел на улицу. Потом он увидел пестрое пятно перед домом на мостовой, там, где стоял вчера маленький немецкий грузовик. С него упало несколько капель масла, и теперь они блестели тонкими ниточками всевозможных цветов на высыхающих остатках запруды, которую соорудили Зигфрид и Рафаэль, сначала из жидкости, вытекшей из штанишек, а потом, когда иссяк этот источник, с помощью ведра воды. Они принялись за работу сразу же после отъезда Элизы Киршбаум, потому что такая возможность представляется не каждый день, не так часто разъезжают здесь автомобили. Яков стоял у окна вместе с Линой, которая была возмущена таким свинством, и наблюдал эту сцену.