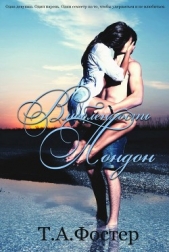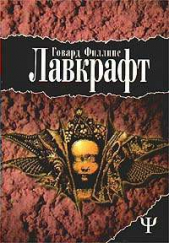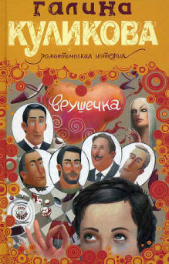Мой золотой Иерусалим

Мой золотой Иерусалим читать книгу онлайн
Современная английская писательница Маргарет Дрэббл (р. 1939 г.) широко известна как автор более десяти романов, героинями которых являются женщины. Книги М. Дрэббл отмечены престижными литературными премиями и переведены на многие языки. Романы «Камень на шее» (1965) и «Мой золотой Иерусалим» у нас в стране публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уж во всяком случае не в меня; надо полагать, в него.
Эта двусмысленная фраза долгие годы оставалась для Клары загадкой: ведь на самом деле миссис Моэм в свое время отлично училась, ее школьные успехи были просто блестящими, в доме тут и там хранились свидетельства давних чествований — книги, надписанные рукой учителя воскресной школы. Но позже миссис Моэм стала ярой ненавистницей всех тех талантов, которыми когда-то обладала, в то время как даже ее муж и тот добровольно платил своеобразную дань делу просвещения: у него имелась «Британская энциклопедия» 1895 года издания, которую он время от времени читал и детей своих понуждал читать, особо упирая на то, что информация — вещь полезная. Сын искусного механика (Кларе, правда, это мало что говорило), он сам своим трудом сумел заработать на дом с тремя спальнями и общей стеной с соседним домом, в хорошем пригородном районе и, как можно было предположить, имел все основания радоваться жизни. Но он не радовался. Он неизменно пребывал во власти какой-то непонятной мелочной обиды, из-за которой все попытки Клары приблизиться к нему наталкивались на неприятие; она периодически предпринимала их просто потому, что отца боялась меньше, чем матери, и два-три раза ухитрилась-таки добиться его поддержки — ей купили велосипед, разрешили сходить в кино. Но Клара чувствовала, что отцу все это безразлично. Впрочем, как можно было его винить? Мысль об этом казалась невыносимой, чудовищной, но Клара все же понимала, что человеку, столько лет прожившему с ее матерью, грешно ставить в вину утрату joie de vivre, вкуса к жизни.
Когда он умер, Клара не испытала настоящего горя. Эта смерть реально проявилась лишь в поведении матери, которая до самого конца пребывала в упорном, угрюмом молчании; она не уронила ни слезинки, а когда похороны завершились, повернулась спиной к могиле, грузно выпрямилась, сложила губы в излюбленную пророческую складку и медленно зашагала прочь по глинистой дорожке; проходя мимо могильной плиты, на которой было высечено, что смерть есть лишь краткая разлука, она разлепила губы и произнесла:
— Итак, его больше нет; не скажу, что я так уж огорчена.
От этих слов шедшую рядом Клару наконец прорвало, она истерично, в голос разрыдалась, слезы градом покатились по ее горячим щекам, но она знала, что плачет не по отцу, а по любви, которой здесь нет, а есть убогое существование в этой мерзкой дыре, в которой и она точно так же, никем не любимая, когда-нибудь умрет. Клару никто не утешал, все остальные вполне обошлись без рыданий, но, с другой стороны, никто и не осуждал; потом, уже дома, дядюшки и тетушки заботливо протягивали ей чашки с чаем. Неловкую заботу проявляли даже братья; Клара сидела, без конца теребя бахрому скатерти, и ей вдруг почудился совсем другой мир — мир, где сильные чувства считаются прекрасными, где даже слезы имеют право на существование, где красивым будет не то надгробие, в котором видна мелкая, дешевая экономия воображения, камня и слов, а то, на котором неистовствуют от горя мраморные ангелы. Все, все что угодно могло бы примирить ее со смертью, думала Клара, — все, в чем есть хоть капля щедрости, но только не эта ничтожная тесная гостиная, не эта лживая обыденность, не эти бесконечные чашки с чаем, не эти безжалостно застывшие лица. Пролейся хоть слезинка, раздайся хоть ропот раскаяния, ей бы этого хватило; но нет, ничего. Родственники даже не надели траура — в ношении траура они видели лишь излишество, фальшь и лицемерие. Ничто у них не имело права на существование. Они сидели, как каменные идолы, и все, чего они хотели, — это быть вот такими каменными идолами, чтобы никто не знал, волнует их что-нибудь или нет, чтобы никто не отличил участия от равнодушия.
Сами похороны миссис Моэм превратила в трагикомическую демонстрацию собственных убеждений. Везти тело в крематорий она отказалась, и не потому, что решила вдруг обзавестись религиозными предрассудками, а потому, что ошибочно полагала кремацию очередным новомодным увлечением; нового же она не принимала. Родители воспитали миссис Моэм прилежной прихожанкой, ее деды и бабки и вовсе были ярыми методистами, но сама она давно уже перестала притворяться верующей во что бы то ни было и все проявления религиозности считала дурацкими причудами. Так что, храня заложенные в детстве моральные устои, миссис Моэм наотрез отказалась от всего, что из них следовало, а породивший их источник игнорировала как надувательство. Она по-прежнему отстаивала одно и порицала другое, но с годами шкала ее оценок слегка сместилась. Если пятьдесят лет назад ношение траура было символом добропорядочности, то теперь миссис Моэм пришла к выводу, что это лишь презренная и недостойная формальность; ибо все, что делалось напоказ, было лицемерием. А оно претило миссис Моэм настолько глубоко, что ей легче было во всеуслышание заявить, будто она ничуть не скорбит по покойному, чем получить обвинение в лицемерии. Требовался немалый опыт, чтобы следить за ее изменчивыми, как зыбучие пески, антипатиями. Любой пустяк, любой неверный шаг одной из теток — и все было бы наоборот, траур был бы вознесен до небес, миссис Моэм превратилась бы в самую безутешную на свете вдову, в одинокую мученицу, а одежда окружающих — в непрестанное оскорбление для нее, единственной, кто имел право пренебречь силой традиции. Катастрофическую непоследовательность матери Клара обнаружила еще в детстве и иногда думала, что с полноценным религиозным фанатиком ужиться было бы, наверное, и то легче — у такого, по крайней мере, все выверты и выходки закономерны и предсказуемы, возникают не на пустом месте, так что известное влияние свыше тоже держало бы их в узде.
С миссис Моэм даже самым покорным и благонамеренным не удавалось не оступиться. Сегодня она превозносила то, что на прошлой неделе считала крайне недостойным и, казалось, не усматривала в этом никакого противоречия. Взять хотя бы вопрос о гробе. Бессчетное количество раз Кларе доводилось слышать заявления матери о том, что, когда она умрет, ей, мертвой, будет наплевать, что станет с ее телом, — пусть делают, что хотят, хоть на помойку выкидывают; поначалу эти рассуждения нагоняли на Клару ужас и непонятное смятение, тем более что были в некотором роде не лишены справедливых оснований. Но стоило супругу миссис Моэм умереть, как цена и качество гроба приобрели всепоглощающее значение, а золотая середина между бережливостью и соблюдением приличий, казалось, никогда не будет найдена. Снова и снова Клара выслушивала про миссис Хьюитт, которая из экономии похоронила мужа в гробу из какого-то неприлично дешевого пористого дерева, да еще требовала скидки за счет страховой компании; а потом про столь же обездоленную и столь же бессовестную миссис Даффи, которая целое состояние угрохала на черный креп да золоченые ручки, и все из вечного желания сыграть на публику. В конце концов Клара, не выдержав, попыталась снова вернуться к возможности кремации (о помойке, столь любезной сердцу миссис Моэм, она не осмелилась упомянуть даже в мыслях, еще хранивших частицу дочерней нежности), но в ответ совершенно неожиданно услышала, что прах должен отойти к праху, а пепел к пеплу, — решительно и непоколебимо миссис Моэм извлекла на свет Божий предписания, над которыми потешалась тридцать лет. Клара не стала указывать на то, что в крематории как раз пепел и получится; смысл материнских слов был ей по опыту ясен и заключался в следующем: кремация — это противоестественно, телу полагается лежать в земле и спокойно гнить. На нее даже повеяло покоем откуда-то из смутной глубины этих слов — при всей своей суровости они были не лишены умиротворяющей красоты иносказания.
Мир иносказаний был той обителью, где Клара только и спасалась. Жизнь, в которой все имело буквальное значение, была настолько откровенно враждебной, что она жадно хваталась за все, что подтверждало возможность иного существования. Но прямые тому подтверждения в ее фабричном пригороде встречались нечасто, и приходилось довольствоваться окольными путями. Клару могло заворожить даже сочетание слов, пусть избитое и стершееся от частого употребления, вроде излюбленного присловья матери: «Не поможет лечение — поможет терпение»; от этой фразы ее всегда пробирал легкий озноб — и от зловеще-неумолимой рифмы, и от звучащего в словах достоинства, которое чуть ли не облагораживало стоическую позу миссис Моэм. Точно так же Клара воспринимала и цитаты из Библии, которые вывешивались на церковной доске объявлений или на рекламных щитах в центре города и гласили: «Я есмь путь, и истина, и жизнь», или: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их», или же: «Не хлебом единым жив человек». Они вселяли покой, но не потому, что Клара верила в их содержание, а потому, что в сочетаниях этих слов была красота, а сами слова, казалось, принадлежали какому-то большому, совсем другому миру, состоявшему из совсем других вещей; к тому же эти цитаты означали, что кто-то счел нужным их вывесить. Точно так же, как одни платят за ум, другие готовы платить за духовные ценности. Даже если сказанное в цитатах было неправдой (на то, что это правда, Клара даже не надеялась), кто-то верил в это и даже выложил деньги — заплатил за аренду щита, развесил плакаты; одно это уже предоставляло какой-то выбор: хотя христианство было ей безразлично, Клара радовалась, что оно существует вопреки отступничеству миссис Моэм.