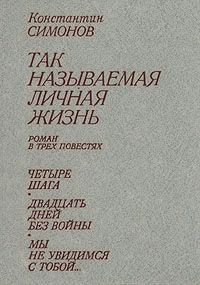Клеа
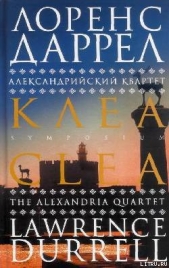
Клеа читать книгу онлайн
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Четвертый роман квартета, «Клеа»(1960) – это развитие и завершение истории, изложенной в разных ракурсах в «Жюстин», «Бальтазаре» и «Маунтоливе». Герои квартета, попавшие в водоворот Второй мировой войны, распутывают, наконец, хитросплетения своего прошлого и, с неизбежными потерями, делают шаг в будущее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Я должен написать и рассказать ему все, – сказал он. – И во всем покаяться».
«Гастон, – резковато и с укоризной тут же отозвался его шеф, – подобных вещей делать не следует. Это усугубит его страдания в застенках. C'est pas juste. [88] Послушай моего совета: обо всем этом следует забыть».
«Забыть! – возопил Помбаль так, словно его укусила пчела. – Вы не понимаете. Забыть! Он должен знать хотя бы ради нее !»
«Он никогда и ничего узнать не должен, – сказал старик. – Никогда».
Они долго еще стояли так, держась за руки и глядя вокруг отрешенно, сквозь слезы; и тут, как будто для того чтобы придать картине завершенность, дверь отворилась снова, и в проеме обозначилась свиноподобная фигура отца Павла, который не пропустил, наверно, еще ни одного скандала в городе. Он чуть задержался в дверях с видом елейным до крайности, собрав черты своего лица в маску почти гротескного самодовольства. «Бедный мой мальчик», – сказал он, прочистив предварительно горло. Потом походя взмахнул холеной жирной лапой, как будто бы спрыснул нас для порядка святой водой. И сделался похож на большого лысого стервятника. Затем, к удивлению моему, оттарабанил полдюжины фраз на латыни – ко утешению скорбящих.
Я оставил друга моего на растерзание этим нелепым утешителям и был отчасти даже рад, что мне в этом латинском карнавале скорби места нет. Я просто пожал ему – один раз – руку, выскользнул из квартиры и направил свой задумчивый шаг туда, где жила Клеа.
Похороны состоялись на следующий день. Клеа вернулась с них бледная, натянутая как струна. Она швырнула шляпу наискосок через комнату и нетерпеливо тряхнула головой – рассыпались волосы, – словно желая поскорей сбросить всякую память о неприятном дне. Потом устало легла на диван и закинула руки за голову.
«Это было отвратительно, – сказала она наконец, – по-настоящему отвратительно, Дарли. Начнем с того, что они ее кремировали. Помбаль настоял на том, что ее прах он заберет с собой, несмотря на визг, который поднял по этому поводу отец Павел. Нет, какая все-таки скотина. Он вел себя так, как будто ее тело стало неотъемлемой собственностью Церкви. Бедняга Помбаль был в ярости. Они дошли до настоящего скандала, пока договаривались о деталях, – я сама слышала. А потом… Я же в этом новом крематории и не была никогда! Он недостроен. Стоит на песчаном пустыре, захламленном сплошь какой-то соломой, бутылками из-под лимонада, а сбоку огромная свалка старых автомобилей. Как будто в концлагере наспех выстроили печь. Жуткие маленькие могилки, обложенные кирпичом, и кое-где из песка торчат чахлые полуживые цветы. И узкие рельсы, а на них тележка для гроба. Такое уродство! И лица консулов и вице-консулов! Даже Помбалю ото всей этой гнусности стало вроде бы не по себе. А жара! Отец Павел был, конечно же, на авансцене и актерствовал самозабвенно. А потом гроб покатился – сам! – с совершенно непристойным скрежетом и визгом по рельсам между кустов и ввинтился в железный люк. Мы стояли и переминались с ноги на ногу; отец Павел попытался было заполнить эту неловкую паузу подходящими по случаю молитвами, но тут где-то неподалеку радио стало играть венские вальсы. Туда послали одного шофера, потом другого, чтобы найти хозяев и заставить их хотя бы сделать потише, но без толку. Ни разу в жизни не чувствовала себя хуже – на дурацком этом пустыре, разряженная в пух и прах. От крематория шел жуткий дух горелого мяса. Я еще не знала, что Помбаль вознамерился развеять ее прах в пустыне и что сопровождать его в этой экспедиции должна я одна. И что отец Павел, который разнюхал еще один шанс для вдохновенной молитвы, решил во что бы то ни стало поехать с нами. Уж такого я никак не ожидала».
«Когда нам наконец выдали урну – что это была за урна! Просто как в душу плюнули. Этакий кондитерский изыск, суперкоробка для дешевеньких конфет. Отец Павел попытался было наложить на нее лапу, но Помбаль тут же взял ее сам и понес к машине. Здесь, надо признать, он выказал характер. „А вы куда? – осадил он батюшку, когда тот полез было в машину. – Со мной поедет только Клеа“. Он кивнул мне головой».
«"Сын мой, – начал отец Павел тихим и скорбным голосом, – я тоже должен поехать с вами"».
«"Ничего подобного. Вы свое дело сделали"».
«"Сын мой, я еду", – говорит эта упрямая скотина».
«На секунду мне показалось, что дело кончится дракой. Помбаль тряс на попа бородой и глядел зверем. Я забралась в машину, чувствуя себя глупее некуда. И тут Помбаль отца Павла ударил на самый что ни на есть французский манер: сильно ткнул в грудь, – плюхнулся в машину и захлопнул дверь. По консульским шеренгам пробежала рябь – еще бы, публичное оскорбление сутаны! – но никто не сказал ни слова. Священник побелел от гнева и дернул было рукой – как будто вознамерился поднять кулак и потрясти им в воздухе, но вовремя одумался».
«Мы тронулись; шофер – Помбаль ему, наверно, заранее все объяснил – поехал в сторону пустыни, на восток. Помбаль сидел неподвижно, держал на коленях отвратную эту bonbonniиre [89] и, полузакрыв глаза, тихонько сопел носом. Как будто собирал себя по кусочкам после всех этих утренних перипетий. Потом он взял меня за руку; так мы и сидели с ним рядом, глядя, как по обе стороны от нас ковром расстилается пустыня. Мы ехали довольно долго, пока он не велел шоферу остановиться. Тут мы вышли и несколько секунд просто стояли на обочине, безо всякой видимой цели. Потом он шагнул в песок, раз, еще раз, обернулся. «Сейчас я это сделаю», – сказал он и, сорвавшись в неуклюжий толстый бег, ушел в пустыню ярдов этак на двадцать. Я поскорей нагнулась и сказала шоферу: «Поезжайте прямо, пять минут по часам, потом вернетесь за нами». Звук отъезжающего автомобиля не заставил Помбаля даже обернуться. Он бухнулся на колени, как ребенок, добежавший наконец до любимой песочницы, и застыл надолго. Я слышала, он что-то там говорил тихим голосом, доверительным тоном, но слов не поняла – молился он или читал стихи, не знаю. Когда стоишь вот так на дороге посреди пустыни – а от гудрона жарит пуще, чем от солнца, – чувствуешь себя страшно одинокой».
«Потом он стал подбирать вокруг себя песок пригоршнями, как мусульманин, и сыпать его себе на голову с тихим таким мычанием. Затем упал лицом вниз и затих. Минута шла за минутой. Вдалеке я услышала звук мотора: возвращалась машина, очень медленно».
«"Помбаль", – сказала я наконец. Ответа не было. Я прошла разделявшие нас двадцать ярдов, набрав полные туфли раскаленного песка, и положила ему руку на плечо. Он тут же встал и принялся отряхиваться. Лицо у него стало вдруг старым-старым. „Да-да, – сказал он и огляделся как-то смутно, тревожно, как будто только сейчас до него дошло, где он и что с ним. – Клеа, отвези меня домой“. Я взяла его за руку и, как слепого, повела потихоньку обратно к машине, – она как раз подъехала».
«Он долго сидел со мною рядом, сонно уставившись в одну точку, потом его вдруг разобрало, и он стал хныкать, будто маленький мальчик, который рассадил коленку о кирпич. Я обняла его обеими руками. Я была так рада, что тебя там не было: твоя англосаксонская душа вся скочевряжилась бы по краям и сгибам. И тут он начал говорить одно и то же сто раз кряду: „Как нелепо я, должно быть, выглядел. Как нелепо я, должно быть, выглядел“. И разразился в итоге истерическим смехом. В бороде у него было полным-полно песку. „Я вдруг вспомнил, какая рожа была у отца Павла“, – хихикая, объяснил он высоким истерическим голосом прыщавой школьницы. Потом взял наконец себя в руки, вытер глаза, вздохнул печально и сказал: „Меня будто высосали всего до капли, устал смертельно. Неделю бы сейчас, наверное, проспал“».
«Скорее всего, так он и сделает. Бальтазар дал ему какое-то сильное снотворное. Я высадила его прямо у дома, а потом шофер завез меня сюда. Я устала немногим меньше, чем он. Но, слава Богу, все кончилось. И ему, хочет он того или нет, придется начинать жить заново».