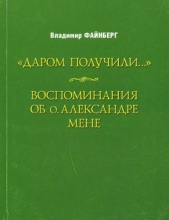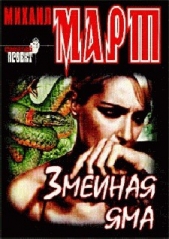Мене, текел, фарес
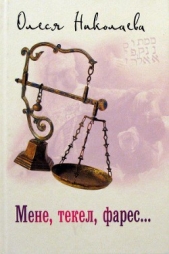
Мене, текел, фарес читать книгу онлайн
Время и место действия - сегодняшняя Россия. Основные герои - православные монахи - самая обделенная вниманием прозы категория наших современников. Отсюда - необычность, даже экзотичность романов Олеси Николаевой, сочетающих в себе драматичность повествования, остроту сюжетных поворотов, юмор и самоиронию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— О чем? — я повторила за ним. Испугалась — вдруг не ответит?..
Он поморщился, отвернулся, потом взглянул на меня так, словно испытывал, смогу ли понять, стоит ли вообще продолжать...
— О том, что охладела любовь, — наконец с трудом произнес он. — Понимаешь, она охладела, она совсем уже холодна, ее почти что и нет... Нет, я не говорю — там, — он показал пальцем на небеса, — у Христа. Но на земле-то, здесь, между всеми нами — ее почти уже нет.
Он помолчал, ковыряя землю носком ботинка, потом сказал:
— А человек жаждет ее. Он хочет быть любимым, всему вопреки! Потому что именно таким он и задуман, именно таким видит его Бог. И когда он любим, он — это именно он!
Дионисий даже вдруг задохнулся. Посмотрел на меня невидящим взором, будто насквозь:
— Почему, думаешь, развелись эти братки, эти преступные пацаны, эти ворюги-чиновники, эти лже-монахи? Да потому что их никто не любил, и они чувствовали, что они — падаль, нежить, ничего не весят, они — ничто, их «я» — это «не я»! Они, может, хотели доказать, что они — есть! Что я — это я! Я иду — расступись! Признай меня! Прибавь же мне весу на весах бытия!
— А сами что же? Почему сами они не могут никого полюбить? Нет, когда я люблю, то я — это именно я!
Я глядела на него сочувственно, и он замолчал. Потом открыл дверь своей кельи и кинул мне напоследок уже совсем другим голосом, — можно было даже подумать, что он шутил:
— Так что «мене, текел, фарес» — это значит, что все — каюк! Оторванные персты сами пишут то, что им вздумается, прямо по воздуху, а каждая оторванная голова, как ей самой взбредет, так это и поймет!
...Ах, Дионисий, Дионисий! Брат мой, во плоти ангел, небесный человек, блаженный изограф, — все перепутал! Не Навуходоносор, а Валтасар, не перст, а пясть, и не по воздуху, а по стене чертога...
...Нет, так просто, как Дионисий, я уйти от учителя не могла. Но не могла и остаться. Я сказала только, сама еще не понимая, для чего:
— Отец Ерм, вы видите, у меня новая машина. Нарядная, скоростная. Сядьте на минуту в нее.
— Зачем? — удивился он.
Я и сама не знала, зачем. Зачем-то... Может быть, потому что выплыли вдруг эти «мене, текел, фарес», этот пишущий по воздуху грозный перст... А может быть — просто так:
— Ну сядьте, сядьте.
Я распахнула переднюю дверь. Удивительно, но он сел. Даже сам эту дверь захлопнул.
— Хорошая машина, — примирительно сказал он.
И тут я, не совсем догадываясь, что делать дальше, включила музыку. Заиграл Моцарт, запели скрипки, все нежнее, все пронзительней, все тревожнее... Я заставила их звучать громче, еще громче, еще, машинально завела мотор, нажала на газ...
— Куда мы едем? Мне никуда не нужно, — заволновался отец Ерм.
Но я лишь прибавила скорость. Мы помчались вдоль лесов и лугов, взметая пыль и прах. И закат был какой-то красный, как бы к холоду, к смуте, к беде. Мы летели в пространство, и музыка ломилась к нам, звуча все громче, щемя все больнее, желая уязвить до смерти, оглушить, заставить понимать только ее.
— Она похитила игумена Ерма! — изумленно кричали провожающие нас деревья, летящие облака.
— Она хочет переиграть Промысел! Она заигрывает с возмездием! Она искушает судьбу! — било в окна красное отчаянное закатывающееся солнце.
— Да что это с вами? — встревоженно спросил отец Ерм. — Остановитесь!
Но музыка была так стремительна, так огромна, она столько пророчила бедному сердцу, подстрекая, раня и будоража. И я выжала до отказа педаль.
— Да стойте же вы! — приказал игумен. — Я не желаю этого слушать! Верните меня назад!
Но Моцарт призывал все новые скрипки, и за них вступались виолончели, альты, флейты, пререкались душные контрабасы — они так хотели бы все повернуть вспять, именно что возвратить назад! Но вся тема была построена на «невозможно!», замешана на «не бывает!», закручена на «не может быть!». А они, эти скрипки, все пытались свое «а все-таки?». А они все подкрадывались со своим «а если?». Вламывались со своим «а вдруг?».
— Да что здесь творится? — отец Ерм наконец разозлился. — Остановитесь! Учтите — никакого раскола не было! Католики с нами — одно!
Мы взлетели на огромный холм. По нему карабкались кусты, вдалеке дымился остывающий лес. Казалось, все это происходит в последний раз, далее будет лишь стремительный бесконечный спуск, черное, подрагивающее на буграх шоссе. Солнце укрылось за красноватым облаком, все опечатав странным, каким-то искусственным, угнетающим светом. «Доколе?» — затрепетали с надрывом струны. «До самыя смерти», — заныли в изнеможении басы.
— Вы сошли с ума! Стойте, иначе я выпрыгну на ходу! — закричал отец Ерм.
Он открыл дверь, готовясь к прыжку, примериваясь к летящей земле. Я резко затормозила, но он прыгнул, даже не дожидаясь, когда я остановлюсь. Прыгнул, упал на обе руки, потом вскочил и побежал по траве. Но Моцарт все еще пытался его вернуть, все гнался за ним, все нежнее, все осторожнее ему лепетал. Вроде как «ничего, ничего, все обойдется, она еще так поездит, поколобродит, побезумствует, а потом — станет смирной, спрашивать будет, заглядывая в глаза: "Чего изволите, отец Ерм? Что вам угодно? Что такое эдакое для вас совершить?"» Но поздно: игумен бежал не оглядываясь, пригибаясь, как будто ждал, что вот-вот по нему откроют огонь.
Потом вдруг — совсем вдалеке — остановился, резко повернулся ко мне лицом, стал что-то горячо кричать. Я выскочила из машины и рванулась было к нему, но он оттуда, издалека, сделал знак рукой, вроде как: стоп, стоп! И стал сам отступать спиной, продолжая горячиться и все еще что-то крича. Я замерла, подавшись вперед, вслушиваясь в его голос, в слова, но ветер дул не туда, и я поймала только жалкий обрывок...
— ...а-али Филиппа! — донеслось до меня.
И он опять развернулся лицом к бесконечному лесу, и опять стремительно побежал, и больше уже не оглядывался...
Я села за руль.
Было уже не столь даже важно, что было там: «зачем вы поддерживали Филиппа» или «не удержали», или «что ж вы предпочитали», или «сами себе избрали», или «вы, наконец, узнали», или «если бы вы украли», или же — «оправдали», или же — «осуждали», или же — «обожали», или же — «унижали», а может, что-то другое, еще...
Я сидела и слушала, пока Моцарт не вышел весь, кассета щелкнула, и я тогда просто слушала все, что вокруг — лес, луг.
Ерм был уже далеко-далеко — скрылся из глаз, исчез. Может, был уже где-то в лесу, может, уже за рекой. Я сидела в смеркающейся тишине. Невыносимо долго. Почти целую жизнь. Потом стало совсем темно.
Дионисий в это время растапливал самовар — он собирался вечерять с Матфеем.
— Сегодни кытайци прыизжалы в монастыр, — жаловался Матфей. — Я почав размовляты с ными на кытаиськый мови. А воны — нэ розумиють. Цвенькають щось свое — ничого нэ розибраты. Несправжнии, ненастоящии якись кытайци. Нэ ти, — заключил он.
А отец Ерм долго шел через лес. Выпала роса. Наверное, он весь промок. Пришел к избе уже заполночь, услышал — Сильвестр и Климент решают свою судьбу, пьют чай, прихлебывая из блюдца:
— Надо бы Папе обо всем сообщить, страдаем ведь за него!
— Ясно дело, пора бы ему о Патриархе все написать. Чтобы Папа его запретил...
И отец Ерм резко повернулся и пошел, сам не зная куда. Но только прочь, прочь. Они вроде даже заметили его тень, силуэт. Вроде даже и выбежали за ним. А его и нет. След простыл. Больше никто с достоверностью о нем ничего не знал. Он просто исчез — и все.
Поговаривали, что видели его в Риме, и он там стал весьма важным лицом. Может быть, даже и кардиналом. А то — сообщали, что вроде бы его похитили какие-то новые русские, из бандитов, заперли у себя в зарешеченных хоромах, посадили на хлеб и воду, заставили писать для них иконы и теперь их выставляют на аукционах в Америке и в Европе за бешеные деньги, чуть ли не каждая — миллион. Но мне что-то не очень верится во все это. Мне кажется, даже если б он и попал в Рим и оказался там со всем католичеством с глазу на глаз и со всеми его католиками — разом, то вряд ли бы он в весьма скором, а то и в наискорейшем времени не разочаровался в них. Да хотя бы почуяв этот душок, сходный с тем, который некогда смутил его в аляповатых ангелах, столь сурово приговоренных им к ссылке... А ведь так мило, так благочестиво смотрелись бы эти ангелы на чьем-нибудь буфете или серванте, никого ни к чему не обязывая и не призывая, а просто немного приукрашивая жизнь...