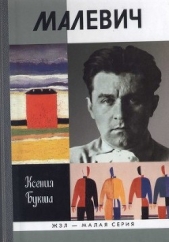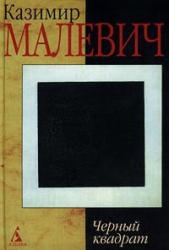День (сборник рассказов, эссе и фельетонов)

День (сборник рассказов, эссе и фельетонов) читать книгу онлайн
В сборник «День» входят рассказы и фельетоны разных лет (1990– 2001), печатавшиеся в русской и иностранной периодике. Часть первая, «Частная годовщина», включает лирические эссе; часть вторая, «Ложка для картоф.», – фельетоны. Третью часть, «Русский мир», составляют сочинения разных жанров, объединенные общей темой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот, например, в фильме есть зонтик. Он несколько раз, падая на снег, полежит-полежит, и вдруг – жжях! – и раскрывается. Вот, скажем, это произвело впечатление. Можно думать (или чувствовать) по этому поводу все что угодно. Можно просто смотреть завороженно; что-то смутно тревожит, а фильм уже движется дальше, и вы, оцарапав сознание-подсознание зонтиком, не задерживаетесь на нем, ибо вам надо не упустить еще тысячу других образов. Можно (читали же вы книжки какие-нибудь) усмотреть тут какой-никакой фрейдизм (который, как известно, что дышло…) и, продолжая смотреть дальше, все же сделать себе зарубку: ага, этот эпизод встраивается в ряд мужской и очень нервной сексуальности, которой картина ну вся пропитана. Как, впрочем, и женской. Можно забрести мыслью в сторону: а зачем человеку зимой зонтик? Можно прочесть этот полезный предмет как символ жалкой попытки прикрыться, защититься, отгородиться (ведь стоит февраль 1953 года, господа, кто не спрятался, я не виноват. Сейчас всех посадят.) А можно сесть рядком, поговорить ладком с Петром Вайлем, горячим и верным поклонником Германа, который вам расскажет – со слов режиссера, – что самораскрывающиеся зонтики в 1953 году производились только в Швеции, и, стало быть, принадлежит зонтик шведу, и вот поэтому в одной из сцен, довольно неожиданно, владелец предмета говорит: «я шведский журналист», – теперь понятно?
Решительно непонятно. Мне вот не удалось обогатить свою память всеми знаниями, которые накопило человечество, Бог миловал, и я ничего не знаю про Швецию в 1953 году, да и про сегодняшнюю, если на то пошло. Потеряла ли я что-нибудь, позорно утопая во тьме своего невежества? По-моему, нет.
Знание о том, что зонтик – шведский, не обогащает и не обедняет восприятие фильма, оно, в совокупности с множеством других знаний-незнаний способствует тому, чтобы аудитория предполагаемых зрителей, дробясь и множась, множась и дробясь, в конечном счете сформировала энное количество «групп», «народов», «культур». Фрейдисты – направо, юнгианцы – налево, постмодернисты – в лес, добротные реалисты – по дрова. Экстраполируя это соображение в гипотетическую бесконечность, можно вообразить себе, что если бы фильм посмотрело все население Земли, то через какое-то время нетрудно было бы сформировать уж как минимум две команды зрителей, уверенных, что они посмотрели две полярно противоположных, совершенно не связанных и ничего общего между собой не имеющих ленты, и, поселись эти группы зрителей рядом, между ними вызрела бы на этой почве страшная, кинжальная междоусобица, религиозная рознь и взаимная культурная ненависть.
Мне бы хотелось чистоты эксперимента, зрительской невинности, но я ясно сознаю, что моя кинодевственность утрачена: я посмотрела фильм один раз, обсудила его с теми, кто смотрел его дважды, прочитала несколько пояснительных статей и поговорила с друзьями Кролика. Второй раз в эту реку я войду уже не на туманном рассвете, дрожа от предутреннего холодка и кутаясь в собственные волосы, а как минимум в подшитых валенках и шляпке. Более или менее представляя себе, где лилии, а где коряги.
Тот же зонтик: теперь я знаю, что он шведский, а когда смотрела фильм – не знала, и мне в моем незнании было очень хорошо. У меня возник свой собственный, удобный мне ряд ассоциаций. Спрашивается: вот сейчас, сообщая гипотетическому благосклонному читателю, собирающемуся в кино, про шведскость зонтика, я что – помогаю ему глубже воспринять богатство образной системы фильма или же отравляю удовольствие? По какую сторону райской ограды богаче существование? И надо ли откусывать от яблок, или пусть висят себе нетронутыми?
У меня нет ответа на этот вопрос; более того, пытаясь разобраться в этой первой трудности, я замечаю, что она буквально раздваивается под руками. Я не только в затруднении – для какого читателя я стараюсь найти внятные слова, – но и читатель, пока мой текст читал, уже изменился, от яблочка куснул. Так наблюдатель самим фактом наблюдения губит изучаемый материал; так луч света, непрошенно вторгшись в темное царство, приносит один вред: ослепнешь – и больше уж ничего не увидишь, ни на свету, ни в темноте.
Впрочем, я не очень раскаиваюсь в содеянном. Если бы на обложке детективного романа издательские доброхоты сообщали, кто убил, то это было бы безобразие и глупость. В фильме же Германа, сколько его ни пытайся пересказать, такое количество бесконечно переплетенных между собой образов и деталей, которые предполагают столько толкований, что хватит на всех.
Тут возникает вторая трудность. Пересказать фабулу фильма несложно, она давно всем известна, но как только перескажешь, так и соврешь. Попробуем так: некий генерал от медицины, большой человек, работает в некоей клинике, где сумасшедшим делают операции на мозге. У генерала – сын-подросток. В феврале 1953 года генерала арестовывают и везут куда-то в фургоне вместе с урками. Урки насилуют генерала. Затем, так же внезапно, как арестовали, генерала освобождают и везут на какую-то дачу, – как не сразу выясняется, сталинскую, где он должен вылечить вождя, но поздно, тот умирает. Генерал свободен, но, вернувшись к семье (а она уже выселена в другую квартиру), он понимает, что не может жить как раньше, и уезжает куда-то вглубь страны в компании новых, вполне опустившихся граждан. Если так пересказать содержание, то это фильм о том, как чудовищный режим губит достойного человека.
Или так попробуем: некая большая семья – мать, бабушка, сын, отец, двоюродные сестры, школьники, прохожие, пациенты, любовницы, москвичи, солдаты, сослуживцы, соседи, толпа на катке, шоферы, неизвестные люди. Народ. Отец-врач режет живые мозги пациентам, – можно сказать, насилует людей. Отца насилуют урки. Главный насильник-отец, Сталин, насилует всю страну. Сына пытаются насиловать его собственные кузины. Школьная драка – тоже насилие. Уличное побоище – насилие. Совместное проживание в перенаселенной коммуналке – насилие и мучительство. Даже утреннее чаепитие, когда в тесном, набитом людьми кадре никто никого не понимает и не слушает, тоже рождает ощущение насилия, о «любовных» же сценах и говорить нечего. Феминистки, считающие, что «секс – это насилие», радостно и злобно найдут в германовском фильме подтверждение этой мысли. Защитники животных тоже обрыдаются, глядя, как генерал поит собаку коньяком. Насилие и любовь неразрывны: изнасилованный, «опущенный» генерал мирно спит на плече у насильника. Плечо, оно мягкое. Привезенный на сталинскую дачу, генерал трепетно, на коленях целует руки палачу, умирающему в собственном дерьме. А потом бежит от семьи, бросая сына. «Либерти, бля!» – звучит в конце фильма с экрана. Поезд уносит его, опущенного и опустившегося, в никуда. Если так пересказать фильм, то он о том, что насилие рождает и поддерживает насилие, что зло разлито в самой плоти жизни, что мир есть сумасшедший дом и если ты режешь чужие мозги, то твои мозги тоже кто-нибудь разрежет. С одной-то стороны «либерти», но с другой – «бля», и наступление «свободы» означает одновременно обрушивание мира, с его устойчивыми, пусть мученическими, но зато и любовными, связями. При желании можно вытянуть из картины любой многозначный образный ряд, как крепкую узловатую нить, прошивающую действие насквозь. Вот генерал делает вид, что пьет чай, но это коньяк в стакане с подстаканником; а на фургоне, в котором его мучают, надпись «Советское шампанское», а уезжая в конце фильма на открытой платформе, он на спор удерживает на голове стакан водки. Когда генерал убегает и прячется, спасаясь от ареста, бессмысленно и бесконечно повторяя вслух, словно бы мозг его стучит, как стучали бы зубы: «Едет чижик в лодочке, в генеральском чине… едет чижик в лодочке, в генеральском чине…», то зритель (русский) договаривает про себя: «…не выпить ли водочки по такой причине?…» Но только выйдя из зала, да и то не сразу, зритель сопоставит и противопоставит коньяк, и водку, и шампанское, и чай, и паровозный пар из чайника, и паровоз в последних кадрах… Кто стишка не помнит, тот и про водочку упустит. Водочку он, допустим, упустит, но, может быть, страшное это «шампанское» на машине, везущей людей, напомнит ему о «снижении градуса» (после коньяка), что среди пьяниц считается вредным. Социальный «градус» генерала, безусловно, тоже снижен насилием. Но «снижение градуса» также означает похолодание, а мотив холода тоже проходит, другой нитью, через фильм. Холод и сладость. Так, мальчику в фильме говорят: выставь, мол, задницу в форточку и ешь сахар – вот тебе и мороженое. Выпущенный из страшного фургона генерал садится голым задом на снег и ест сахар. А сам этот мотив задан с самых первых кадров, когда звучит блоковское стихотворение, со строкой «…мальчишке малому не сладки холода»; Да и само шампанское есть не что иное, как холод и сладость, и опять-таки: насилие, оно имеет две стороны, одному – холод-смерть, другому – сладость. В этом нескончаемом переплетении, в этих эхо и отголосках смыслов нет никакой натяжки (как может показаться при изложении на бумаге), потому что Герман спускается в бессознательное, находит и использует глубоко лежащие архетипы. Архетипы же нас не спрашивают, сами проступают повсюду: от банально-романтического «как сладко умереть» (в ваших, к примеру, объятиях) до недавних российских ужасов, когда смерть, в виде взрывчатого вещества, была перемешана с сахаром…