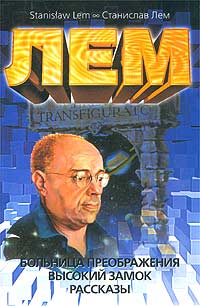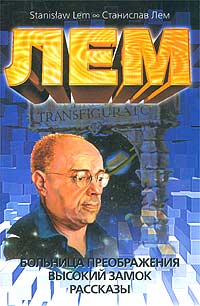Больница преображения. Высокий замок. Рассказы
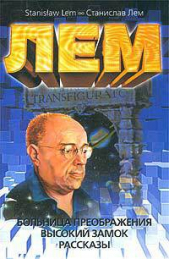
Больница преображения. Высокий замок. Рассказы читать книгу онлайн
В книгу вошли философско-фантастические романы "Больница преображения", "Высокий замок" и рассказы всемирно известного польского писателя и философа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В спальне были две вещи, с которыми связаны мои самые ранние воспоминания: потолок и огромный железный сундук. Я спал там, а спальне, будучи еще совсем маленьким, и часто рассматривал лепной потолок, на котором с помощью гипса были изображены дубовые листья и между ними пузатые желуди. Мои предсонные мечтания как-то переплелись с этими желудями, и я много думал о них — точнее, их созерцание занимало много места в моем психическом бытии. Мне ужасно хотелось их сорвать, но не взаправду — словно я уже тогда понимал, что острота желаний гораздо важнее их осуществления. Между прочим, что-то от этой инфантильной мистики перешло на настоящие, живые желуди: снятие с них шапочек в течение многих лет казалось мне чем-то особым, приоткрывающим что-то необычное, актом, имеющим огромное значение, Я ломаю себе голову, пытаясь понять, почему это было для меня столь важным, — пожалуй, напрасно.
В спальне, в которой я спал — да, кажется, в ней, — умерли мои дедушка и бабушка. После дедушки остался железный сундук, предмет чрезвычайно тяжелый, огромный, никому не нужный, что-то вроде домашней сокровищницы тех времен, когда еще не было профессиональных взломщиков сейфов, а существовали лишь примитивные со всех точек зрения воришки, в наивности своей пользовавшиеся какой-нибудь палкой либо дубинкой. Железный сундук был приставлен к наглухо заколоченной двери, отделяющей спальню родителей от комнаты ожидания для больных. Сундук был снабжен большущими ручками и плоской крышкой с какими-то вырезанными на ней листьями и квадратным клапаном посредине. Стоило этот клапан особым образом нажать сбоку, как он отскакивал, открывая отверстие для ключа — хитрость, как я теперь вижу, была трогательно добропорядочной. Однако в то время черный сундук казался мне делом рук каких-то изощренных умельцев и уж совершенно сверхъестественное изумление вызывал во мне ключ к нему: огромный, как мое предплечье. Я долго и нетерпеливо дорастал до того момента, когда смог, наконец, впервые повернуть его в скважине; эта операция потребовала от меня максимальных усилий, и, лишь ухватив ключ обеими руками, я смог одолеть его сопротивление.
Правда, я знал, что в сундуке нет сокровищ. Там на дне лежало несколько старых, пожелтевших газет, бумаг и деревянная шкатулка, полная восхитительных тысячемарочных банкнотов времен большой инфляции. Я даже пытался играть этими марками, а также сторублевками, которые были еще красивее: голубоватые, очень веселые, в то время как коричневато-бурые немецкие мерки немного напоминали по цвету замызганные обои. Какая-то непонятная история приключилась с этими деньгами, неожиданно лишив их могущества. Вот если бы мне их не давали, я, может, и поверил бы в то, что остатки могущества, гарантированного цифрами, печатями, водяными знаками, портретами коронованных бородатых панов в овале, в них еще сохранились и только дремлют до поры до времени. Но я мог делать с ними что душе угодно, и поэтому они только вызывали презрение, которое обычно начинаешь чувствовать к великолепию, оказавшемуся на поверку вульгарной подделкой. Поэтому рассчитывать я мог не на эти банкноты, а лишь на то, что могло бы произойти внутри черного сундука, пока он находился под замком, а замкнут он был, собственно, всегда — с моего молчаливого согласия, которого, естественно, никто не спрашивал. Да, надо думать, там, в темноте, внутри, могло что-нибудь случиться. Поэтому процесс открывания сундука был актом весьма значительным и нелегким. С трех сторон ужасно тяжелой крышки откидывались длинные петли; крышку надо было поднять и подпереть специальными подпорками, иначе, падая, она могла — как меня в том уверяли и во что я охотно верил — отсечь голову. От такого сундука можно было всего ожидать. Он вовсе не был симпатичным, или приятным, или хотя бы просто красивым. Скорее угрюмым и безобразным, тем не менее я долго рассчитывал на его собственную внутреннюю силу. В дне сундука были предусмотрительно высверлены отверстия, чтобы его можно было наглухо привернуть к полу: отличная идея. Но не было уже винтов, теперь излишних; потом сундук накрыли старым ковриком, и, таким образом, он был окончательно занесен в разряд ненужной мебели, унижен, и его перестали замечать. Иногда, очень редко, я показывал кому-нибудь из ровесников ключ от него — он вполне мог сойти за ключ от городских ворот. Но со временем и он куда-то запропастился.
В примыкающем к спальне кабинете отца стоял большой застекленный книжный шкаф с внутренним замком, огромные кожаные кресла и круглый столик с довольно интересными ножками: они напоминали кариатид; под самой крышкой каждая из них кончалась металлической головкой, а внизу из-под дерева, словно из маленького гробика, выступали босые, тоже металлические, человеческие ступни. Однако это вовсе не казалось мне жутким и вообще не вызывало у меня никаких ассоциаций. Я одну за другой методично пооткручивал все головки — пустые бронзовые отливки, — и хотя потом старательно поприделывал их на место, они все равно болтались под крышкой стола при каждом его перемещении.
У стены в одиночестве стоял замкнутый на все замки письменный стол отца, покрытый зеленым сукном. Там в совсем будничном ящике хранились деньги, но уже настоящие. Изредка в нем гостили сокровища более значительные, с моей тогдашней точки зрения, — коробочка шоколада Нардалли, привезенная из самой Варшавы, или другая — с фруктовым мармеладом. Отец обычно долго священнодействовал связкой ключей, прежде чем какая-нибудь из этих сладостей, по-аптечному отмеряемых, появлялась передо мной, разрываемым двумя взаимоисключающими желаниями: проглотить угощение молниеносно или же упиваться перспективой этого поглощения по возможности дольше. Как правило, я все проглатывал сразу. В столе были замкнуты еще две удивительно интересные вещи. Маленькая заводная птичка в коробочке, выложенной перламутром, родом, кажется, с Восточной ярмарки. Птичка эта была не подлежащим продаже экспонатом какой-то экзотической экспозиции. Отец, увидев, что после нажатия миниатюрной кнопочки открылась плоская перламутровая крышечка, а под ней вторая — в золотую клеточку, — и став свидетелем того, как из — коробочки выскочила малюсенькая, меньше, чем ноготь, птичка, вся темно-радужная от блесток, и, трепеща крылышками, шевеля клювиком, стреляя глазками, вертелась, словно флюгер на костеле, и пела, привел в движение все пружины, знакомства и связи, так что в конце концов за неведомую мне баснословную сумму купил эту драгоценность, которую он лишь в исключительных случаях доставал из-под замка и заводил, тщательно заботясь о том, чтобы она не попала мне в руки, ибо было совершенно очевидно, что это была бы последняя минута в жизни птахи, хотя я не меньше отца дивился ею и даже почитал. Птичку отцу продал, кажется, очень важный представитель заморской фирмы, а еще точнее — японец. Во всяком случае, именно такой версии я остался верен. Некоторое время в столе обитала другая птичка, похуже, размером с воробья, заводная, которая заядло долбила стол, если ее на него ставили. Однажды я выпросил ее на некоторое время; в тот день и окончилась ее история. Были еще в столе отца всякие диковинки, из которых лучше всего я помню очки из золотой проволочки со стеклышками-рубинами, тоже в золотом футлярчике, длиною не больше маленькой спички. Другие, менее ценные вещички хранились в стеклянном шкафу в столовой. Это были плоды искусства миниатюризации — крохотный столик с шахматной доской и раз навсегда расставленными на ней шахматами, курятник с курочками, скрипки (у них я повыдергивал струны) и разная мелочь из слоновой кости, какие-то стульчики, диванчики, яйцо, которое, открываясь, являло миру множество сбившихся в кучу фигурок, потом еще серебряные рыбки, сделанные из пустых металлических члеников, что позволяло их изгибать в две стороны, а также, помнится, коричневые креслица с обивкой; сиденья были размером с ноготь, атласные и мягкие. Сам не знаю, каким чудом большинство этих предметов в течение многих лет выдерживало мое активное присутствие. Однако возвращаюсь к кабинету, к его старым большим креслам; в узких, но глубоких провалах между их спинками и сиденьями постепенно накапливались разные предметы — монеты, пилки для ногтей, ложечки, гребешки; все это я весьма усердно, выкручивая себе пальцы, а креслам коленчатые пружины, скрипевшие словно в агонии, вылавливал, вдыхая аромат мертвой кожи, столярного клея, шершавого полотна. Меня влекли не столько сами находки, сколько неясная надежда, что я найду — или даже скорее, что они сами как-то вылупятся, — предметы совершенно иные, наделенные непередаваемыми свойствами. Поэтому на всякий случай я должен был быть один, когда с тихой яростью принимался пытать потемневших от старости лентяев. То, что ничего необычного я в них не обнаруживал, как-то не остужало моего запала.