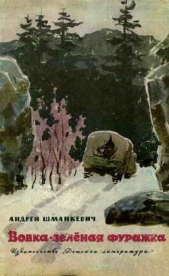Один день солнца (сборник)
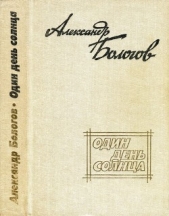
Один день солнца (сборник) читать книгу онлайн
Псковский прозаик известен читателю по книгам «Если звезды зажигают», «Билет в прицепной вагон», «Последний запах сосны» и др. Повести и рассказы, вошедшие в настоящий сборник, написаны в разные годы. «Облака тех лет» — это горестное повествование о трагической жизни людей, обреченных существовать в условиях гитлеровской оккупации. Действие других повестей и рассказов происходит в наши дни. Нравственные принципы советского человека, воспитание молодежи, влияние родителей на формирование характера, внутреннего мира детей — эти проблемы объединяют все произведения книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Георгий — это боль особая, это судьба; вся жизнь теперешняя — оправдание ей. Многое по-другому сложилось бы в жизни, говорить нечего: хозяин — стержень семьи, главная кость. Но ведь и без него подняла всю тройню. С Зинкой-то намучилась — мамочка родная!.. Ох, господи, зачем старые раны бередить… Все минуло, все быльем поросло. Живи знай да радуйся…
Но отчего же не сходит покой на душу? Отчего давно высохшие реки прошлого наполняются вдруг живой водой и плеск и грохот ее заглушают все сущее? И сердце полно тревоги, словно беда никогда далеко не прячется…
Живи знай да радуйся… Только бы сбросить с плеч пережитое.
Этого Ольга, как ни пыталась, сделать не могла.
Она подвигала ногами, поискала им место поудобнее. Попробовала дышать ровнее. Дом еще бодрствовал: наверху кто-то досматривал запоздалую телепередачу — можно было разобрать целые фразы: прослушивались отгороженные стенами голоса. Снаружи долетела веселая музыка — в доме напротив гуляли. «Суббота», — вспомнила Ольга.
В ее избу посторонние звуки просачивались скупее: каждый дом живет своим миром, двор от двора отделен заборами.
Она без особых усилий могла вернуть себе ощущение домашнего ночного безмолвия. Их окраинная улица стояла в стороне от больших проезжих дорог, стены жилья были хоть и ветхие, но толстые, ставни запирались наглухо. В поздние часы, лежа в одиночестве в опустевшем доме — переборку она с выездом дочери разобрала, — Ольга отличала большей частью близкие звуки: возню мыши под полом, в зимние холода — оседание и потрескивание сруба. Малые шумы заглушали ходики, но ухо так привыкло к их монотонному перестуку, что Ольга научилась каким-то внутренним усилием отделять повисающее в воздухе биение от остального мира звуков и улавливать обнажившееся дыхание жилища. В большие морозы, укутываясь чем можно, она слушала кряхтенье остывающей печки и участливо вздыхала.
Когда дети были маленькими, к ним лишь и поворачивала ухо: ровно ли сопят? Как кто зачастит — так и сердце екнет: не захворал ли?
Коснувшись в памяти военных ночей, Ольга тотчас почувствовала, как внутри нее упала холодная искра страха — родилось какое-то тревожное воспоминание, вытесняющие остальные. Она безотчетно засопротивлялась наваждению, даже головой тряхнула, пытаясь уйти от пагубного воскрешения прошлого. Но искра светилась, обостряла боль, и вдруг вспыхнуло синим светом — «похоронка»…
Первый раз ее сбросил с койки этот крик, когда Саньку еще грудью кормила, и война казалась бедой неблизкой и временной. Поздним вечером со двора Грибакиных — соседнего, за штакетной оградой, — вынесся истошный вопль Варвары — как звериный вой, дикий и жуткий. Он легко прошил стены и словно варом обдал Ольгу, — она чуть Саньку из рук не выронила — усыпляла грудью.
В чем была, натыкаясь на родные углы, выскочила Ольга за порог, в лихорадке вернулась к закричавшему ребенку и, прижимая его к теплому телу, высунулась за калитку. По тротуару, держа в руках какую-то бумажку, шла, спотыкаясь, простоволосая Варвара. Остановившись подле Ольги, Варвара, как полоумная, долго выла, глядя пустыми глазами на Ольгу. Потом прервала стенания, прохрипела: «Кольку мово убили!»— и снова наддала голосу и пошла дальше, к другому дому. Распахнутая кацавейка обвисло держалась у нее на плечах…
«Варя, это ошибка! Варя, это ошибка!» Эти первые слова, брошенные вслед безутешной соседке, память сохранила нетронутыми навсегда.
Позже не раз еще защемлял сердце в тиски отчаянный бабий крик, — и все по ночам, когда они, обессиленные, возвращались с вечерних смен, а дети заботливо сберегали для них надежно запечатанные светлые конверты. Среди тьмы, как смертельный луч, вдруг повисал над улицей тягостный стон, — его ни с чем нельзя было спутать, — и хлопали калитки, шуршали под окнами быстрые шаги — люди шли размыкивать горе.
«…В бою за нашу Советскую Родину, верный воинской присяге… пал смертью храбрых…»
И сама она криком кричала, увидев у себя уже знакомый глазу бланк извещения, билась головой об стол. И дети были долго не кормлены, и уже Варвара Грибакина стала ей первой подпорой, остановившей на самом краю. «Сироты…»— жалостливо глядела, придя в память, на ребят и ясно видела на их худых бескровных лицах эту обозначившуюся мету. И еще не рожденное, еще без тягости носимое дитя — остатний след Георгия — уже тоже было сиротой.
На проводах тоже вопили — когда прощались с мобилизованными, на вокзале. Тоже надрывали души дурные вскрики баб, — молодухи шли как подголоски. Но из пестрого провожального хора редко выплескивались голоса обреченности, неотвратимости горя, — в долгом гуле расставаний отзывалась далекая обрядность, в каждом тлела надежда не на самое худшее. Глухое завывание старух, хорошо помнивших и мировую, и японскую, познавших истинную цену надежды и веры, тонуло в зное и гомоне.
…Ольга перевернула подушку — местом похолоднее, приподняла голову. «Унялись, все унялись…» — подумала успокоенно. Теперь уже ничто не мешало ей плыть по морю воспоминаний — бурному и холодному, но до страсти притягательному, близкому, своему. Она прекрасно знала, какой измученной и опустошенной прибьют ее к рассветной гавани волны этого тревожного моря, где смешивались явь и сон, жизнь и грезы. Опыт научил, что пережитое в памяти порою тягостнее реальных ощущений, но каждая рана прошлого зудела, покалывала, и ее нужно было тронуть, остудить…
Чистого хлеба они не ели, да и не видели уж, верно, с год, — подсеивали в муку и молотую вику, и сою, в тесто подмешивали отруби, добавляли картошку и даже очистки. И когда, перед самой побывкой Георгия, темным вечером пришел к ней Труфанов — ее бригадир — и принес с собой полбуханки круглого подового хлеба, Ольга по духу определила: ржаной, как довоенный.
— Ребятам, — сказал бригадир, развернув тряпицу и выпростав краюху, и этими словами как-то отодвинул неловкое стеснение, связавшее было их обоих: больно позден был час посещения.
— Что ты, Семен Федорович, что ты! — Ольга сделала руками отстраняющий жест, но на излете машинально подвела ладони под падающий каравай, ощутила в них его отрадную тяжесть и всей грудью вдохнула сладостный аромат свежего хлеба. — Что ты…
— Это им… и тебе… Поешьте.
— Где же взял-то такой? Господи, чистый…
— Вроде. Из деревни принесли…
Они говорили тихо, чтобы не разбудить детей, но у Мишки сна уже не было ни в одном глазу, — он их мигом продрал, едва за шторкой зашептались. И хлебный запах уловил. Но себя не выдавал, знал: это никогда не поздно. Он замер.
— И вот еще, тоже принесли по заказу, — Семен Федорович вытащил из-за пазухи бутылку, заткнутую пробкой из газеты. — Сегодня мы должны кое-что отметить.
Ольга слышала, что у бригадира погибла жена — при эвакуации, где-то по дороге на восток. С нею была и дочка. Она о них и подумала, когда хотела спросить, что же именно они должны отметить.
Запах хлеба одолел Мишку, он чихнул. В комнате замолкли, потом Ольга вполголоса произнесла:
— Мишк!..
— Что?
Отозвавшись, Мишка в ту же секунду зашлепал босыми ногами, вышел из закутка. В свете коптилки он увидел на столе хлеб и, глотая слюни, повернул лицо к матери. Потом снова впился глазами в уполовиненную ковригу и, не в силах оторваться от нее, застыл. Боковым зрением он видел сидящего близко от хлеба незнакомого человека, но сил рассмотреть его в упор не было, голова стала легкой и слабой. Мишка пошатнулся…
— Господи, боже мой!.. — Ольга поддержала его и повлекла к себе, но Мишка тут же оправился и репьем вцепился в край стола. Свободной рукой Ольга поправила свалившееся с плеча старое мужнино пальто, накинутое прямо поверх ночной рубашки, а Семен Федорович схватил хлебину и, отломив подавшийся кусок, протянул Мишке:
— На, малой, на…
Горбушка вышла увесистой. Мишка понял, что добавки ждать немыслимо и, значит, можно не торопиться, и осторожно лизнул шершавую корку.
— Иди, — сказала Ольга. — Сашку не потревожь.