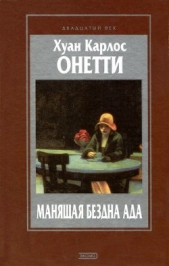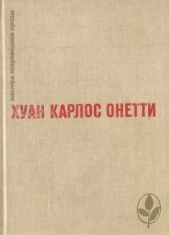Короткая жизнь

Короткая жизнь читать книгу онлайн
Уругвайский прозаик Хуан Карлос Онетти (1908–1994) — один из крупнейших писателей XX века, его нередко называют «певцом одиночества». Х.-К. Онетти создал свой неповторимый мир, частью которого является не существующий в реальности город Санта-Мария, и населил его героями, нередко переходящими из книги в книгу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В основе это вопрос не посредственности, а трусости. И еще слепоты и забывчивости, того обстоятельства, что сознание предстоящей смерти не пробуждено в каждой нашей костной клетке. Я мог бы проговорить до утра; мне все послушно, я все вижу со стороны.
Женщина посмотрела на площадку, затем на часы на запястье Штейна…
— Не время еще, милый. Ты же знаешь, раньше мне не отделаться.
— Мало того, что ты лгал мне все эти годы впрямую, — заявил Штейн. — Ты еще лгал мне всеми жестами, всеми позами, всеми фразами, которые доходили до меня без твоего ведома. Имеется некий Браузен, и вдруг тем же голосом, с тем же наклоном головы, с чемоданом расчленителя трупов между ног, тот же самый или другой Браузен отвергает свой образ и заставляет меня пересматривать длинное прошлое, стирать тысячу впечатлений, чтобы добраться до его подлинного лица. Стоит ли труда?
— Человек, готовый платить цену, — сказал я. — Но платить не для того, чтобы купить что-то, а чтобы заслужить то, что дарит ему бог или дьявол. Платить не до, как ты и другие, а после. Я еду с одной женщиной в Монтевидео, повидаю Ракель, брата, всю компанию. Я искал тебя, чтобы сказать это. Не знаю, надолго ли.
— Лечу утренним самолетом, — продолжал я лгать. — Прежде я считал, что мне важно вернуться в Монтевидео, увидеться с ними после стольких лет разлуки, но теперь я понял, что главное — это пуститься в путь, прочь от Буэнос-Айреса, от данного перевоплощения Маклеода, от Гертруды, от тебя, от всего этого периода. Ведь он давно закончился, хоть и не сразу — у него, как у покойников, еще росли борода и ногти. Теперь он завершен, и так основательно, что кажется сном, который приснился кому-то другому. Я хотел обмануть себя и думал, что город, кафе в закоулке у площади, ночи на той улице с цветниками, что идет под уклон, там еще две таких, ты должен помнить, в Рамиресе или Пунта-Карретасе, что это, и еще сотня вещей, и Ракель, и мой брат, и Лидия, Гильермо, Марта, Суарес, что все это и все они хранят мою молодость и достаточно поехать туда, чтобы вновь ее обрести.
— Не забудь осмотреть ее, когда вернется, — сказал Штейн. — Ноги, платье между ногами при ходьбе. Она сводит меня с ума. Но так не бывает; а если бы и случилось, что они сберегли тебе Браузена пятилетней давности, ты не знал бы, что с ним делать.
— Все это обман, — ответил я. — Главное, покончить, покончить с этим прошлым, с прежним. Может, я пробуду там месяц и поеду дальше, в Бразилию. Я напишу тебе, клянусь.
Женщина подошла к столу раньше, чем я успел оглянуться, раздвинула на скатерти зеленые пальцы, засмеялась в сторону. Она расположилась в мире, ожидая чего-то еще не пережитого, но точно представляемого ею во всех деталях, включая значение и следствие каждой детали.
Должны закрыть в три. Я уверен, что Эрнесто по-прежнему спит в номере гостиницы. Конечно, он может сбежать, но он навсегда связан со мною запиской, которую они найдут рядом с ключом. Мне интересно только одно: может сбежать, но не решается, чувствует, что оторваться от меня нельзя. А вы сами? Я — что угодно; пожалел его, подумал, что приключение стоит риска. Там — записка, там — охота все рассказать, бедняга. Я не пьян, это легкое возбуждение над бездонной глубиной покоя и безразличия. Мне больше не о чем говорить со Штейном.
— Минуточку, дорогая, — сказал Штейн. — Я был прошлым и для этих святых Жанн. Они сводили меня к символу своего позорного прошлого и бросали, уходили с патлатым кадыкастым малым, противником чистоплотности, бесноватым двадцати с небольшим лет, который вылетает из армии, как репей, и непременно приземляется, будь проклята моя душа, в Буэнос-Айресе, федеральной столице. Едва очухавшись от удара, он открывает, что бог указует на него перстом и преследует заключенным в треугольник оком, веля делать мировую революцию. Как известно, данная задача не может быть выполнена без поддержки, вдохновения и близости девушки, способной вызывать желание и зарабатывать на жизнь. Вследствие чего мне доставалось выносить от Орлеанских не столь уж дев живописание моих мелкобуржуазных актов, суд над каждым поступком и мнением по мерке предубеждений (честно говоря, они были не очень «пред», так как приобретались неделю назад под воздействием очередного, черт бы его побрал, патлатого, хотя моя знаменитая мужская интуиция и не подозревала о процессе политизации), суд и выражение щедрой и безнадежной жалости ко мне как к пережитку умирающего общества, его предсмертному хрипу и паразиту. А парашютисты, подозрительно многочисленные незапятнанные юноши, без колебаний давали понять промеж обоснованных обличений и выдержек из букваря, на кои опирались их утверждающие речи, их этика самоотречения и насилия, их пространные нудные поучения из смеси Христа с Заратустрой, парашютисты намекали, что серией рогов я был обязан и тому нескрываемому обстоятельству, что приближаюсь к сорока, а не к тридцати.
— Пойдем, — сказала женщина. — Теперь я могу уйти. Твой друг трезвее, чем ты.
— Зеваю, но не скучаю, — с улыбкой ответил я и поднял последнюю рюмку. Я должен остаться в полном одиночестве на продолжительное время и вспомнить Кеку, сделать еще одну попытку понять безличное окоченелое тело, перебрать все, что утихло, что несколько часов назад перестало существовать от века, стерлось из прошлого, но что я могу упорно воскрешать.
— Они удалялись прочь от моего тлетворного влияния к революционному сожительству, чтобы гордо идти вперед через аборты и голодовки. Ради своего эгоистического спокойствия я вызываю их в памяти прижимающими к груди доставшуюся им утеху.
Два официанта надвигались на нас, собирая скатерти; музыканты оркестра, действуя в эпицентре наступающей тишины, кончали укладывать в футляры свои инструменты. Она медленно поворачивалась, демонстрируя мне стойкость подобий, из которых, как я выяснил, состояло ее лицо; наконец, отчаявшись, она показала мне веснушки, шершавость, пятна на коже, что походило на интимное признание, которое может нас сблизить.
— Получила? — спросил Штейн, пряча деньги.
— Я пошла, — сказала она. — Лучше подождите меня в кафе напротив. Я должна сходить наверх, чтобы взять пальто.
— Выкурим сигарету, — предложил мне Штейн. — В бутылке еще кое-что осталось. Эти пусть подождут. Ты влюблен в женщину, с которой собираешься ехать?
— Нет, — сказал я и, внезапно протрезвев, в тревоге откинулся на стул. Я как будто впервые узнал о смерти Кеки. Сквозь прозрачную жестикуляцию Эрнесто в номере гостиницы передо мной проступало лишь ее лицо, жесткое, сухое, морщинистое, с парой широких зубов, протянутых к убегающей нижней губе. Я с испугом понял, что забыл ее. Мне представлялось, будто непрерывность воспоминания о похолодевшем теле способна отводить опасности. Пока я думаю о ней — с известной нежностью, слабой толикой страха, умеренной любовью, — Кека, с одной ногой, согнутой в колене, другой выпрямленной, черным ртом, влажными дугами между ресниц, более могущественная, чем живые, будет охранять меня; завершенная, мертвая, она обладает прочностью, которой лишены живые и на которую я могу опереться.
— Но тебе грустно, — сказал Штейн. — Хочешь увести ее с собой?
Женщина стояла со мной рядом в накинутом на плечи блестящем сером пальто и подтягивала к локтям зеленые перчатки; она сколола волосы за ушами, и мне была видна приветливая задумчивая улыбка, кротость, с какой она относится к озадачивающим выходкам любимых существ.
XIII
Начало дружбы
Часы в вестибюле гостиницы показывали 3.30; я бесшумно шел по ковру, ставя ноги в будущий день, в то время, которое привык считать невозможным. Я улыбнулся ночному сторожу, но он, вручая мне ключ, не взглянул на меня, и я сохранил половину чрезмерно выразительной улыбки для лифтера, который не смог уклониться от нее и не знал, что с ней делать. Если б я мог постичь себя, собрать и постичь все и подать ему в короткой простой фразе.
В комнате было темно; я засунул чемодан в шкаф, зажег свет и подошел взглянуть на Эрнесто. Он лежал, свернувшись, подложив ладонь под щеку, раздувая и поджимая дыханием одну губу. Затем я увидел в углу письменный стол с лампой под шелковым абажуром, почтовую бумагу, чернильницу и ручку. Я вспомнил про обещанное Штейну письмо, почувствовал искушение завещать ему Буэнос-Айрес и мое прошлое, разыграв комедию посмертной исповеди. Вложив всю свою сонливость в один зевок, я в виде дружеской уступки усталости согнулся в привычной позе над письменным столом, зажег лампу, накинул на абажур платок. Эрнесто, женщина с ее окоченелостью, холодом и темным запахом смерти остались у меня за спиной, растворились в тени. Я принялся рисовать имя Диаса Грея, воспроизводить его типографскими шрифтами, предваряя словами «улица», «проспект», «парк», «бульвар»; начертил план города, который я выстроил вокруг врача, вдохновляясь его маленькой неподвижной фигурой у окна консультации; подобные идеям и желаниям, пылкость которых с осуществлением убывает, возникали наброски кварталов, контуры аллей, наклонные улицы, умирающие у старого мола или теряющиеся позади Диаса Грея в неизвестном еще сельском пейзаже, который отделяет город от швейцарской колонии. Я постарался изобразить с высоты птичьего полета конную статую, которая высилась в центре главной площади — была и другая площадь, близ рынка, старая и запущенная, где гуляли только дети, — статую, возведенную на пожертвования благодарных сограждан генералу Диасу Грею, непревзойденному на поле брани и в мирных трудах. Обозначил реку волнистыми черточками вод и фигурными скобками чаек и почувствовал, что дрожу от радости, от ослепляющего богатства, обладателем которого я неприметно стал, от жалости к доле тех, кому оно не дано. Я видел статую Диаса Грея, указывающего шпагой на поля округа Сен-Мартин, зеленоватые пятна пьедестала, простую строгую надпись, полускрытую всегда свежим венком; видел пары в воскресный вечер, стайки девушек, приходящих на площадь по проспекту Диаса Грея после прогулки под огромными деревьями парка Диаса Грея, где большинство их ступало по следам матерей, дыша тревогой, которую какая-то навязчивая идея вызывала в матерях четверть века назад; видел, как из кондитерской «Диас Грей» с напускной ленью, в склоненных долу шляпах, с зажженной сигаретой между пальцев выходят мужчины; видел, как в неподвижном начале сумерек к Санта-Марии поднимаются машины колонистов, мягко перемещая вдоль шоссе Диаса Грея круглое облако пыли.