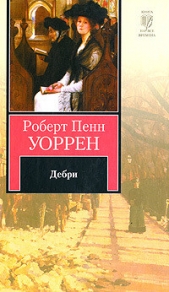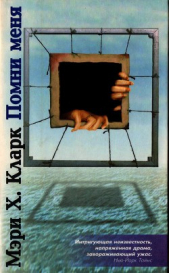Момемуры

Момемуры читать книгу онлайн
Я пишу это в Олстоне, графстве Мидлсекс, на берегу Атлантического океана. Хотя сказанное — очередная печать стиля, так как никакого океана ни из одного из семи окон моего апартамента не видно; и дабы начать лицезреть тусклое пространство воды в скучной оторочке осенних пляжей и поставленных на прикол яхт, надо проехать, по крайней мере, миль 15, не менее.
Но я действительно здесь, куда никогда не хотел ехать синьор Кальвино, о чем сделал соответствующую надпись на козырьке растрепанной географической карты Северной Америки в главе «Островитяне».
Я же, чтобы меня не увело опять в неизбежные дебри, должен сказать, чем отличается новая редакция, выходящая сегодня в нью-йоркском издательстве Franс-Tireur, от журнальной, опубликованной в четырех номерах «Вестника новой литературы», начиная с пятого, украшенного бравурной красной лентой Букеровского приза. Изменений в тексте немного: в рамках рутинного превращения в экзотику всего русского Энтони Троллоп стал Салтыковым-Щедриным, незабвенная Джейн Остин — Верой Пановой, кореянка Надя Ким — сибирячкой с густым несмываемым румянцем во всю щеку и т. д.
Плюс любимая писательская игра по ловле блох — тех орфографических ошибок, с которыми так и не справилась ни лучший редактор всех времен и народов Марьяна, ни чудная пожилая дама с абсолютной грамотностью, порекомендованная мне Мишей Шейнкером. Сложная ветвистая фраза, очевидно, обладает возможностью до последнего таить самые очевидные ошибки в тени стилистической усталости.
Но самое главное, «Момемуры» выходят тяжеловооруженные самым продвинутым аппаратом: два авторских предисловия, статья об истории написания романа, статья от комментатора имен, разные списки сокращений и — самое главное — роскошные, обширные комментарии. Их писали четыре разных человека, обладающие уникальным знанием о том, о чем, кроме них, сегодня уже почти никто ничего не знает, а если знает, не напишет — о К-2.
Надо ли говорить, что они были прототипами моих разных героев, или, по крайней мере, упоминались в тексте романа, почти всегда под придуманными никнеймами? Да и сама идея издать «Момемуры» с пространными комментариями, иконографией, иллюстрациями, даже DVD с музыкой, которую мы тогда слушали, и картинами, которые мы смотрели, также принадлежала тем героям романа, которые были моими друзьями до его написания и, конечно, после. (Хотя количество тех, кто обиделся на меня на всю жизнь, причем, имея на это множество оснований, поделом, как, скажем, Алекс Мальвино, таких тоже было немало.)
Алик Сидоров хотел выпустить десятитомное издание «Момемуров», чтобы роман превратился в игру: жизнь в подполье, полная неизведанных наслаждений, борьбы с КГБ, ощущения запойной свободы, которой больше не было, ну и кайф от творчества — поди, поищи такой.
Увы, даже наш Алик вынужден был подкорректировать замысел – не пошла ему перестройка впрок, не похудел, не побледнел, как-то обрюзг, разбух и давно уже согласился, что том будет один (самое большее — два), но с подробными комментами, фотками прототипов и серией приговских монстров из «Бестиария». Ведь именно он, на свои деньги, послал в Питер того самого лопуха *уевского, о котором упоминает Боря Останин в своей статье.
Но что говорить — нет уже нашего Алика, нет и Димы, то есть они есть там, в переливающемся перламутром тексте «Момемуров» (а я совсем не уверен, что перламутр лучший или даже подходящий материал для воспоминаний); но, к сожалению, данное издание будет без фотографий прототипов героев и их версий в «Бестиарии». Но и то немалое, что есть, стало возможно только благодаря Сереже Юрьенену, который взял на себя труд публикации сложнейшего текста.
Что осталось сказать? Я лучшую часть жизни прожил с героями «Момемуров», они научили меня почти всему, что я знаю, пока я, хитрый и хищный наблюдатель, исподволь следил за их жизнью. Благодаря им, я написал то, что написал. И сегодня кланяюсь им всем, даже тем, кто вынужден был взять на себя роли отрицательных персонажей или, точнее, героев с подмоченной репутацией. Но, конечно, главная благодарность им: Вите, Диме, Алику — синьору Кальвино, мистеру Прайхову, редактору журнала «Альфа и Омега». Если в моем тексте присутствует то, что некоторые остряки называют жизнью, то это только потому, что у меня дух замирал, пока я поднимался по винтовой лестнице очередной неповторимой, сделанной на заказ натуры – и восхищался открывшимся с перехода видом!
Поэтому я думаю, что мой роман о дружбе. То есть само слово какое-то мерзко-советское, хреновое, с запашком халтурных переводов по подстрочникам и дешевой гостиницы на трудовой окраине, но мы были нужны и интересны друг другу, и, это, конечно, спасало. И то, что этот хер с горы Ральф Олсборн позвонил-таки из таксофона в вестибюле филармонического общества Вико Кальвино и договорился о встрече, а потом понял, с каким редкоземельным материалом столкнулся, за это ему можно, думаю, простить и ходульность, и гонор, и дурацкий апломб. Не разминуться со своей (так называемой) судьбой — разве есть большее везение?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что заставило меня поглядеть через плечо? Неудачно сданный экзамен, окончательно разочаровавший в получаемой специальности; фиаско в любовной истории с женщиной, что была на хрестоматийные пятнадцать лет меня старше и отнюдь мне не нравилась; пресыщение лучезарным светом юности, из которой я вышел мрачным угрюмым скептиком; или происшествие, заставившее внезапно споткнуться о неведомый порог (совесть? перверсия похоти? юношеский бзик?): наверное, все вместе — конкретной отправной точки не было. Случилось то, что симпатическими чернилами было написано мне на роду: конечно, решил стать писателем.
Отвечая на вопрос Стенли Брюнера, я, вероятно, несколько удивил своего интервьюера, сказав, что писать я хотел всегда. Думаю, он посчитал мой ответ претенциозным. И в некотором смысле был прав. Принятое решение вряд ли можно назвать удачным. Будь я смелей и откровенней, встреть я человека, понявшего и раскусившего нехитрую угловатость моей натуры, я бы остался, вернее — стал, нормальным здоровым филистером, и необходимость делать из литературы форму существования отпала бы. Этого не произошло. С детства болезненное ощущение исключительности томило меня тем сильнее, чем глубже приходилось его скрывать. Мое положение напоминало состояние беременной, узнавшей, что плод в ней неправильно повернут и кесарево сечение неминуемо. Ситуация осложнялась тем, что с самим собой я был незнаком, хотя, как герой Мики Джексона, автора знаменитых в начале века повестей, привык говорить о себе в третьем лице.
В двадцать лет я продолжал рушить преграды, чревато стоявшие передо мной в десять: боролся против ветряных мельниц, превращенных в грозных идолов воображением хилого и впечатлительного мальчика из русского квартала на чужбине. Как это бывает, масштабы внутреннего и внешнего «я» не совпадали: я подходил к себе предвзято и неточно расставлял акценты. Преимущества возводил в ранг недостатков, а недостатки высокомерно не замечал. Не представляя последствий, в пору первой юности (и под стать ей) я увлекся западной литературой — за месяц прочел в Национальной библиотеке все пять томов Пруста в издании 36-го года, там же в журнале «Литературные осколки» наткнулся на куски «Улисса» (то, что успели напечатать до ареста переводчика), просматривал «Русский журнал» с произведениями современных русских авторов, долго ходил под впечатлением «Ада» Холлинга, прочел все рассказы Барта, Генри Джефферсона и, прежде всего, их общего неблагодарного ученика. Прочитав книгу последнего о Париже, я был введен в опасное заблуждение: ремесло писателя, поданное аппетитно, казалось самоцелью, процесс вождения пером по бумаге наполнялся невыносимо сладостным смыслом, а героический пессимизм писателя-эмигранта (конечно, меня соблазняла параллель) казался единственной стоящей формой отношения к жизни. Я не заметил, что парижская бедность (а бедность всегда лакома, если вы живете в обеспеченной и респектабельной семье) скроена из той же самой материи, что и лохмотья нищего в мюзиклах Лопеса, а тому, что у страны, где мне предстояло жить, не было Парижа, просто не придал значения.
Иллюзий насчет легкости литературного ремесла я не питал, напротив: априорная трудность писательского пути придавала только дополнительную прелесть и значимость этому сомнительному занятию. Бытие в искусстве виделось мне наиболее устойчивым и уравновешенным состоянием, а литература казалась индульгенцией не совершенных грехов и оправданием отпущенного жизненного срока. Еще не получив кредита, я уже мучил себя мыслями о расплате. Мысль о конечности земного круга находила для себя успокоение: творчество казалось панацеей от бесследного исчезновения. Серьезно решив писать, я честно думал исключительно о себе, остальные интересовали меня лишь постольку, поскольку им предстояло стать моими читателями. И это, в общем, неудивительно. Как и многие, я смотрел через свое непрозрачное «я» и, конечно, дальше носа не видел. Для себя самого я был «ding an sich»1.
За шесть лет попыток войти в литературу было несколько, я входил в нее в два-три-четыре приема, как боязливые американцы, привыкая, входят в холодную воду на побережье. От каждого шага оставались одна или две неоконченные странички, их продолжение даже не подразумевалось. Решив стать писателем, я почему-то не сомневался, что стану писателем великим и, естественно, разрешал себе только шедевры. Ощущение исключительности уравновешивалось отношением к себе как к объекту литературы. Я был тонкой мембраной, что испытывает давление изнутри и извне. Преувеличенное мнение о себе наталкивалось на внутренние и не менее суровые претензии, и последнее обстоятельство избавило меня и мой дом от потока исписанной бумаги.
Не очнись, как после тяжелой болезни, от промелькнувшей юности, я так и остался бы писателем в уме, писателем белого листа, на всякий случай глядящим на всех сверху вниз, с высоты своего несозданного гениального произведения. Впоследствии я неоднократно читал это чувство в глазах других: иллюзия превосходства, подсчитанного по принципу минимума потерянных очков, — шаг, не сделанный и оставленный про запас, намекал на скрытые неиспользованные возможности. Будь мои отношения с жизнью более интимными, научись я без стыда и ненужного раскаяния переносить простые физические радости, я бы в конце концов тоже научился тайно презирать потенциальных собратьев по ремеслу, а очередная попытка по параболе устремилась бы в неосуществимую бесконечность. Но, проснувшись однажды дождливым утром, я понял, что жить мне скучно, жизнь, как она есть, мне не по нраву, для существования, похожего на пыльное зеркало Уайльда, просто не было сил, — и решил стать писателем, не откладывая в долгий ящик, начиная с этого же утра.
Ангелина Фокс, молоденькая девушка, навестившая меня как-то по заданию редакции вечерней газеты, поинтересовалась, о чем был мой первый рассказ? В этом рассказе я описывал свое возвращение в тесный колодезный двор с деревянной двухмаршевой лестницей и старым деревом посередине, в дом дедушки Рихтера. Возвращение было мнимым, я его выдумал, реального возвращения не было. Почему возникла эта тема? Я объяснил Ангелине Фокс, что в очередной раз испугался смерти, пустоты, аннигиляции и спешно стал рыться в памяти, ища место, где можно спрятаться. И первым, что пришло на ум, вынырнуло, точно парус из-за линии горизонта, было огромное дерево (русский тополь, как говорили в нашей семье), проросшее мое детство насквозь (рядом со мной? плечом к плечу? как двойник?). Это дерево не было для меня субстанцией, оно было функционально, и под его сенью я решил создать свой первый рассказ. Я возвращал себя, то есть «его» (третье лицо, казалось, снимало все возможные упреки) вместе с очередной прелестной приятельницей в город некогда покинутого детства и заставлял эту парочку около часа пробыть во дворе дома дедушки Рихтера.
«Он», бартоновского типа, сдержанный и молчаливый, ничем не выдавая ассоциативных переживаний, молча вел свою спутницу по деревянной двухмаршевой лестнице, звонил в ностальгически знакомую дверь (крашеную бугристо-зеленой краской) и полчаса после того, как на звонок никто не отозвался, сидел на верхней щелистой ступеньке и громоздил рубленый диалог с хорошенькой, но, конечно, мало его понимающей собеседницей, настоящей героиней новеллы с подтекстом: она умела лукаво скрещивать стройные ноги в тонких чулках, откидывать назад волосы, показывая боттичеллиевскую линию лба, и курить с ловкостью заправских гангстеров. Мотив возвращения служил обрамлением: внутри него герой (то есть я) перебирал воспоминания, как перебирают части механизма, из которых не составляется целое. Я с интересом открыл, что являюсь не цельным и сплошным, а состою из частей: и где-то в углу на чердаке были свалены в кучу покрытые слоем пыли забытые детские страхи и не менее чудесные дары волхвов, прикосновения к которым оказались сладостно-болезненными, как к шатающемуся зубу или к подсыхающей корочке ранки.
Через какое-то время я написал еще один рассказ. К концу года их было уже несколько. Отличалось ли мое литературное начало от прочих известных дебютов? Тому же Стенли Брюнеру я ответил, что по сути — вряд ли. Сочинительство стало для меня анабиозом, словесной летаргией, ожиданием изобретения в будущем лучшего лекарства от смерти. Не находя ни в своей жизни, ни в жизни окружающих никакого смысла, я наскоро попытался смастерить смысл искусственный, заменив им отсутствие подлинного. И додумался до хитрости, известной, конечно, до меня: решил раздвоиться, одновременно являясь для себя и субъектом и объектом.