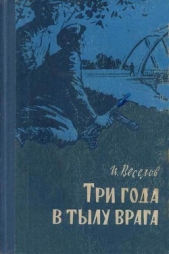Иной мир (Советские записки)

Иной мир (Советские записки) читать книгу онлайн
Автор описывает свое пребывание в лагерях ГУЛАГа, где он разделил судьбу десятков тысяч поляков, оказавшихся на территории Советского Союза в начале Второй мировой войны. Отличительная особенность "Записок" Г.Герлинга-Грудзинского заключается в том, что он не вынес чувства озлобленности против русского народа. Этот факт имеет важное значение для развития российско-польских отношений. Рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Соседом Шкловского был тот мужчина в зеленой гимнастерке, которого я застал за чтением книги. Полковник Павел Иванович (к сожалению, я не помню его фамилии) был в камере единственным, наряду со Шкловским, офицером в таком низком чине. Узнав, что я поляк и в сентябре 1939 года был в Польше, он оживился и засыпал меня градом вопросов. Оказалось, что до ареста он работал в разведке на польско-советской границе; он отлично знал все, даже самые глухие провинциальные дыры в Восточной Польше, а четыре года пребывания в тюрьме ничего не стерли из великолепного разведывательного досье, хранившегося у него в памяти. Он помнил размещение гарнизонов, дивизий, полков и отрядов Корпуса пограничной охраны, фамилии и малейшие человеческие слабости их командиров: тот все время нуждался в деньгах на карточную игру, другой был помешан на лошадях, третий жил в Лиде, а в Барановичах держал любовницу, а вот этот был образцовый офицер. Он взволнованно расспрашивал меня об их участии в кампании 1939 года, как проигравшийся владелец конюшни расспрашивает об успехах своих прежних лошадей на заграничных бегах. Я мало что мог, да и хотел ему рассказать. У меня еще гудело в голове от сентябрьского шока.
Болтовня с Павлом Ивановичем на разведывательные темы не была бесполезной: мы быстро подружились, и однажды разговор мимоходом перешел на обитателей камеры. Я помню этот вечер так, словно это было вчера. Мы лежали на его нарах - точнее, он лежал, а я сидел, опершись на локоть; рядом с нами дремал ленинградский студент-медик с девичьим лицом, который однажды шепотом спросил меня в уборной, читал ли я «Возвращение из СССР» Жида: судя по статьям в советской печати, это очень интересная книга. В камере уже зажгли свет, за столом играли в карты моряки, а на нарах в ряд - как на двух братских катафалках - лежали советские генералы, застыв в позе недвижной задумчивости. Павел Иванович взглядом указывал мне на каждого по очереди, едва шевеля мышцами лица и - прямо как экскурсовод в зале египетских саркофагов - бросая краткие пояснения.
О толстом еврее, который, как обычно, свесив ноги с нар, что-то напевал, Павел Иванович сказал: «Дивизионный комиссар в Испании. Прошел крайне тяжелое следствие». Про бородача, неустанно попыхивавшего трубкой, - что это авиаконструктор, генерал авиации, который как раз недавно объявил голодовку, требуя пересмотра приговора «во имя нужд советского авиастроения». Все были в 1937 году обвинены в шпионаже. По мнению Павла Ивановича, все дело было крупномасштабной немецкой провокацией. Через нейтрального посредника немецкая разведка подсунула советской сфабрикованные доказательства против значительной части советских штабных офицеров, которые в то или иное время побывали за границей. Немцам надо было парализовать советское командование, а советская контрразведка жила в состоянии распаленной подозрительности после «заговора Тухачевского». Если бы война с Германией началась в 1938 году, Красная Армия вступила бы в нее с серьезно ослабленными штабными кадрами. Начало Второй мировой войны спасло арестованных от смерти и внезапно остановило обороты следственного колеса пыток. Они ожидали начала войны СССР с Германией, надеясь на освобождение, полную реабилитацию, выплату жалованья за отсиженные годы. Десятилетние приговоры, зачитанные им месяц назад, после трех с половиной лет непрерывного следствия, они считали заурядной формальностью, при помощи которой НКВД спасало свой авторитет.
Ни у кого из обитателей 37-й камеры в ноябре 1940 года не было сомнений в том, что война с Германией будет; они верили в ее победоносное завершение и в то, что ни дня военные действия не будут идти на советской территории. После вечерней поверки, когда в камеру приходил ларечник с папиросами, сосисками и газетами, Павел Иванович - как младший по возрасту и по воинскому званию - забирался на стол и читал вслух одинаковые сообщения с западного фронта из «Правды» и «Известий». Это был единственный за весь день момент, когда генералы оживлялись, страстно споря о шансах обеих сторон. Меня поразило, что в их словах, когда речь заходила о советском военном потенциале, не было ни тени жалобы, бунта или мстительности - только грусть людей, оторванных от своего ремесла. Однажды я спросил об этом Павла Ивановича. «В нормальном государстве, - ответил он, - есть люди довольные, сравнительно довольные и недовольные. В государстве, где все довольны, возникает подозрение, что все недовольны. Так или иначе, мы представляем собой сплоченное целое». Я заучил эти слова наизусть.
Генерал Артамян, бородатый армянин из авиации, вечерами поднимался на несколько минут, и его массивное тело совершало между нарами что-то вроде прогулки, «чтобы косточки размять». После каждой такой прогулки он снова ложился на прежнее место и, тяжело сопя, делал несколько глубоких вдохов и выдохов. Он всегда совершал это со смертельной серьезностью и удивительной пунктуальностью. Его вечерняя гимнастика была для нас сигналом на ужин.
Когда я попал в 37-ю камеру, шел третий день его голодовки; через десять дней моего пребывания в камере голодовка все еще продолжалась. Артамян побледнел, его прогулки становились все короче, у него часто начиналась одышка, и он заходился кашлем каждый раз, когда раскуривал трубку. Он требовал освобождения и реабилитации, ссылаясь на свои заслуги и революционное прошлое. Ему предлагали работу под конвоем на ленинградском авиазаводе и отдельную камеру в «Зимнем Дворце». Раз в три дня по утрам надзиратель приносил ему в камеру обильную передачу «от жены», о которой Артамян ничего не знал и которая, по всей вероятности, уже в течение тех же трех с половиной лет была в ссылке. Артамян поднимался с нар, предлагал угощение всем в камере, а когда ему отвечали лишь глухим молчанием, вызывал из коридора надзирателя и при нем выбрасывал все содержимое передачи в парашу.
Хотя меня определили спать возле параши, то есть совсем рядом с ним, он ни разу со мной не заговорил. Однако в последнюю ночь, когда неестественно оживленное движение в коридоре выглядело предвещавшим этап, мы оба не спали. Я лежал навзничь, сцепив пальцы под головой, и прислушивался, как за дверью нарастает шум шагов, словно гул выходящей из берегов реки у запруды. Клубы дыма из трубки Артамяна заслоняли слабый свет лампочки, погружая камеру в душный полумрак. Внезапно его рука спустилась с нар и принялась нашаривать мою. Когда я, слегка приподнявшись на полу, подал ему руку, он без единого слова засунул ее к себе под одеяло и приложил к грудной клетке. Сквозь холщовую рубаху я нащупал утолщение и впадину на ребрах. Он провел моей рукой ниже, под коленом, - то же самое. Я хотел что-то ему сказать, о чем-то спросить, но каменное лицо, обросшее мхом бороды, ничего не выражало, кроме усталости и раздумья.
После полуночи движение в коридоре еще усилилось, было слышно, как отпирают и запирают камеры, монотонные голоса вычитывали из списков фамилии. После каждого «Здесь» река человеческих тел вздымалась, колотясь волнами приглушенного перешептыванья в стены. Наконец открылась и дверь нашей камеры - Шкловского и меня вызвали на этап. Когда, стоя на коленях, я поспешно увязывал свои пожитки, Артамян еще раз схватил меня за руку и крепко ее пожал. Мы вышли в коридор, прямо в толпу потных, еще дышащих сном тел, боязливо присевших на корточки у стен, словно охвостья человеческой нищеты в сточной канаве.
Со Шкловским мы оказались в одном отделении «столыпинского» вагона. Он подстелил на лавку шинель и, устроившись в углу, так и просидел все время - выпрямившись, молча, в гимнастерке, застегнутой на все пуговицы, сплетя руки на коленях. Кроме нас, на верхних откидных полках разместились трое урок и тут же принялись играть в карты. Еще поезд не тронулся, а один из них, орангутанг с плоским монгольским лицом, уже рассказал нам, что наконец-то дождался в Ленинграде приговора - 15 лет за то, что в печорском лагере зарубил топором повара, который отказался дать ему добавку каши. Он рассказывал спокойно, с оттенком гордости, ни на минуту не отрываясь от игры. Шкловский сидел неподвижно, с полуприкрытыми глазами, а я не без усилия засмеялся.