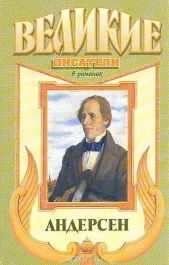Новый Мир ( № 2 2009)
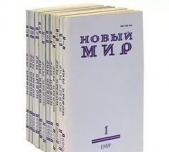
Новый Мир ( № 2 2009) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утром Двусик пережил сильную эрекцию и, выскочив через сени в уборную, не смог справиться со струей.
— Да ты что, совсем уже ошалел! Ну-ко, все-то ведь обосцал! — ругалась на него мать, бросив перед ним сковородку с яичницей, жареной на прошлогоднем сале. Двусик не любил свою мать. Впрочем, в этом его, Двусика, “не любил” было больше прямого смысла, чем в любом другом “не любил”. Он не любил ее с того возраста, когда впервые стал чистить зубы, а заработанные в совхозе деньги потратил не на запчасть к мотоциклу— купил дорогие ботинки и галстук. Перед танцами он старательно скреб под носом опасной, оставшейся от отца-покойника, бритвой и заранее был готов зарезаться этой бритвой, оттого что мать опять придет к клубу. Она приходила, выманивала его на крыльцо и канючила на виду у куривших в кружке с городскими девчонками пацанов:
— Пойдем, Отенька, домой! Пойдем, дитятко! Ну на их, на бесстыдных девок, уж пойдем-ко спать, я вороты запру.
— Ты иди, мам, иди, — пытался отбиться Двусик, переживая мучительный позор жизни. — Ну ведь рано еще!
— Да какое уж тебе рано, когда было десять!
— Я в двенадцать приду!
— Да ты что! Ты что! Ошалел! — взмахивая руками, меняла интонацию мать. — Дак я, что ли, до двенадцати не должна спать? Мне в пять корову доить. Пойдем, дитятко, пойдем, Отенька! Как я буду до двенадцати-то не спать, когда вороты не заперты? Не могу я без тебя спать! Ну пойдем, пойдем, свет мой Отюшко!
И мать хватала его руками, норовя приласкать как маленького.
Чтобы не переживать позор дальше, Двусик бежал от клуба едва не бегом и всей спиной, как локатором, улавливал распространяющиеся за ним разговоры. Спина горела от них, как сожженная радиацией. Он так и слышал:
“Ну и пусть бежит к ней в постель!”
“Да ты что?”
“Да вот то! Он же с маткой спит. Че, не знал? Она с ним, это, как с мужем”.
Так, поди, кто-то брякнул, ляпнул, сказал как плюнул, а он все не мог догадаться, почему вдруг ребята переменились, отчего вдруг девчонки смотрят от него в сторону, а потом громко прыскают и даже не дожидаются, когда он отойдет чуть подальше.
Что бы он ни делал потом, как ни силился оправдаться, все только портил. Он прилюдно грубил и бросался на мать чуть не с кулаками, а в день танцев до остервенения напивался и тогда грозил подпереть ворота и сжечь свою-эту мать вместе с домом, и от этого на деревне только откровенней смеялись.
Смех теперь уже вызывало само его имя, Отто, хотя у них в классе по устойчивой деревенской моде было целых два Феликса и еще один Герман. Что-то сдвинулось в душе Двусика. Сам себе он не мог соврать, что не лежал вместе с матерью. В детской памяти это было живо. Мать укладывала его, больного, с собой, и он помнил эти вялые груди и этот мягкий живот и то, как было ему неприятно...
Когда в деревне стали уже в открытую говорить, что он живет с матерью, и уже отыскивались свидетели, Двусик хотел повеситься, но, представив себя в петле, обнаруживал себя не висельником, а висельницей, женой Вечного Гуся. Растрепанная, распухшая от вина и удушья, в спущенных чулках, она висела в освещенном окне на втором этаже восьмиквартирного учительского дома, и вся Зубцовская школа неотрывно смотрела, как директор, учитель труда и сам Вечный Гусь приставляют к стене обледеневшую лестницу и пытаются выбить двойные зимние рамы, потому что дверь была подперта изнутри. Нет, повеситься Двусик не мог.
Двусик снова перестал чистить зубы, он копал в дорогих ботинках картошку и опять чинил мотоцикл. Разбиться на мотоцикле — это было почетно. Разбившихся хоронили всей школой и помногу раз говорили, какие хорошие были парни. Двусик знал, что, разбившись, он даже не заставит о себе много врать. Он слишком легко учился, чтобы учиться плохо, и слишком много читал, чтобы не понимать, как нужно себя вести. Он не был даже уродом. Тем злей, подлей и безжалостней был удар.
Опозоренный, он стал себя изучать и вынужден был признать, что с раннего детства казался несколько странен и чудноват. Но — не чудней отца, утонувшего при спасении рыбака, но не спасшего и не спасшегося, и даже не странней матери, за один месяц чуть не умершей дважды — в поздних родах единственного ребенка и на похоронах мужа. За этот месяц она будто прожила всю вторую половину своего крестьянского века, да такой вот, прожившей, и осталась до конца дней. Лишь по мере вхождения Двусика в первый мужицкий возраст мать стала несколько оживать, разгибаться. В ней проснулась поздняя ласковость. Двусик этого сам не видел, но высматривали другие.
Двусик не любил мать. Отворачиваясь к окну, он доел пережаренную яичницу и, едва мать отошла с кухни, выбросил шкварки сала в ведро для поросенка. Он терпеть не мог и смотреть не мог, с какой жадностью их за ним подъедает мать, беря руками со сковородки, и жир вытекает из угла ее шамкающего беззубого рта. Это было еще нетерпимей, чем селедка по праздникам. Из всей рыбины мать съедала лишь голову, высасывая из нее мозг, выламывая жаберные крышки и выискивая те мышцы, которые этими крышками двигали, а потом находила и съедала рыбий язык. Завтра праздник, вспомнил про себя Двусик, все-таки день рождения.
Заводя трактор, Двусик также вспомнил, что сегодня обещал фермеру привезти песка из карьера. Он прицепил телегу и бросил в нее лопату. Ехать пришлось через всю деревню, до поворота возле магазина.
Павел притормозил возле магазина. Только что на дорогу, на разбитый узкий проселок от деревни до трассы, вывернул трактор с телегой, и тащиться за ним не имело смысла. Павел выключил двигатель и привычным движением потянулся к сумке с компьютером на пассажирском сиденье, но тут же усмехнулся: всего четыре часа, и он будет в Москве. Сидеть без дела надоело через минуту, а через две ему захотелось курить. Когда-то он бросил. Бросил по своей собственной методике, выведенной из индийской практики умирания. Смысл методики заключался в одном-единственном утверждении: смерть — последнее приключение в жизни. “Это просто: не кури день — потом закури, не кури три — потом закури, не кури неделю — и опять закури. Потом месяц. И ты будешь знать, ты будешь готов к тому, что ждет тебя через день, через три, через неделю и месяц. Это как предвосхищение смерти, приход которой для индийского йога подготовлен практикой всей его жизни”. Гордясь тем, что бросил курить, Павел никогда еще не срывался — из гордости.
А тут он стоял возле магазина. Не выходил из машины и вообще плохо верил, что решится из-за одной пачки простоять в этой длинной неспешной очереди, потому что местные люди покупали сумками и мешками— под следующий свой заработок у фермера, которому принадлежал магазин и который, не платя живых денег, предлагал отовариваться под запись; покупали тут истово, с удалью, не прицениваясь — в какой-то тайной полунадежде-полупредчувствии, что фермер вот-вот разорится, и грех, сущий грех не вычерпать свои будущие невыплаченные зарплаты заранее.
Павел плохо выдерживал эту деревенскую очередь. Не любил, когда незнакомые люди переговариваются через его голову. Не любил и того, как очередь замолкала, едва он вступал в общение с местной продавщицей, в меру молодой и красивой, вот только что, словно лодка, качавшейся на волне этих сплетен и разговоров, а тут разом неподвижной и безразличной, будто воткнутое в берег весло. Хуже всего, что эта деревенская продавщица Павлу нравилась. Нравилась даже не лицом и не телом — тем подледным, холодным, но все же теплее льда, приливом крови к мошонке, какой он испытывал при просмотре только двух или трех эротических сцен из
всего мирового кинематографа. Павел сам удивлялся этому ощущению и списывал все на то, что в девушке есть что-то порочное, а порочное — возбуждает.
Оттого что Павел вспомнил о продавщице, курить захотелось сильнее. Он попробовал снова пробудить в себе гордость, вместо этого вспомнилось, каким он был дураком.