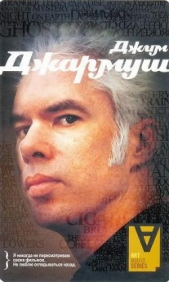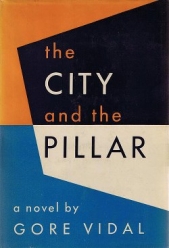Голыми руками

Голыми руками читать книгу онлайн
Итальянка по происхождению, Симонетта Греджо живет во Франции и пишет на французском языке — по роману в год, пользуясь стремительно растущим успехом у читателей и у критики.
“Голыми руками” — ее четвертая по счету книга. Парижанка Эмма, получив диплом ветеринара, уезжает в глухую провинцию. Днем она лечит животных на соседних фермах, принимает роды у коров и овец, а вечерами читает и наслаждается тишиной в своем домике на отшибе. Она не забыла пережитую в Париже драму, но научилась вспоминать о ней без боли. Жизнь Эммы течет одиноко, но спокойно — до того дня, когда к ней неожиданно приезжает пятнадцатилетний Джованни, сын человека, которого она за годы разлуки так и не смогла разлюбить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но и в этом мне суждено было разочароваться.
***
В суде мне задали вопрос, на который я не смогла ответить. Меня спросили, как, по моему мнению, — Джио ребенок или нет. Я молчала, не зная, что сказать. Если бы меня спросили сегодня, я бы ответила “да”. Да, это еще ребенок, но он уже мужчина, и даже немного старик — так иногда случается, что люди стариками рождаются и стариками умирают. Или не перестают быть детьми. Это, как правило, очень цельные натуры. Вот, к примеру, д’Оревильи, мой учитель. Или моя бабушка по отцовской линии — она умерла, упав с дерева, когда воровала у соседей абрикосы. Ей шел восемьдесят второй год.
— Я завтрак приготовил! С этими… как их… с тостами…. Только они в тостере малость того… перестояли.
Джио был свежий, после душа, в красных пижамных штанах — шелковых, но с обтрепанными штанинами — на голое тело и с кухонной лопаткой в руке. На столе стояли сковорода с жареным беконом, чайник и корзинка с подгорелыми тостами.
— Ну что, малыш? Как спалось?
— Дрых как сурок. Какая у нас на сегодня программа?
Я толкнула входную дверь, ничего не ответив. Я не пью по утрам чай, не ем тостов. Я выпиваю две чашки черного кофе, читая старую газету. И все это делаю молча.
Джио включил радио и стал пить чай с горелыми тостами. Я не слышала, как он подошел. Обернувшись, я столкнулась с ним. Он удержал меня за руку:
— Я не “малыш”, Эмма. Меня зовут Джованни.
Мы стояли так близко, что черт его было не различить. В уголке рта у него прилипла крошка. Мне хотелось ее стряхнуть, но я удержалась и высвободила руку:
— У тебя пальцы липкие. Теперь все будет в меду.
— Как же есть мед, не перемазавшись?
Я смотрела на него, пока он мыл руки. Спина худая, волосы разделены прямым пробором, во впадине под затылком черная звезда, на пояснице пушок. Он вышел из кухни и вернулся с посудой, поставил ее в раковину и включил воду, открыв кран на полную. Повсюду полетели брызги.
Я уменьшила струю:
— Тебе не нужно так много воды. Она тут дорого стоит.
Он тряхнул головой и пробурчал:
— Старая зануда.
Я пошла к себе наверх, унося чашку кофе.
В то утро я еще не пришла в себя после короткого беспокойного сна и некоторое время лежала в постели, слушая, как шумит ветер в листве и плещется вода в речке. Летом по шумам я легко узнаю, который час. В четыре еще темно и тихо. В пять начинают подавать голос первые птицы. Потом — взрыв птичьих трелей. Окно было открыто, свет проникал сквозь занавески, едва колышимые потоком воздуха. Мне было больно глотать, саднило горло. Под душем закружилась голова. Меня знобило. Медленные, почти приятные судороги пробегали по позвоночнику. И без градусника было понятно, что температура ползет вверх.
Когда я снова спустилась в кухню, Джио все еще ходил полуголый и расставлял по местам посуду. Я позвала его, он подошел с виноватым видом. Я вдруг забыла на мгновение, что собиралась сказать, и спросила, когда это он успел так вырасти. Сразу или постепенно?
— Шестнадцать сантиметров за один прошлый год, — с гордостью заявил он.
Я продолжала удерживать его рядом с собой и в замешательстве пыталась вспомнить, что хотела сказать. Наконец я вспомнила и открыла было рот, но он меня перебил:
— Понятно, мне пора сматываться. Ты меня выгоняешь?
Отводя глаза в сторону, я кивнула. Он изобразил протяжный театральный вздох и сказал, что ему надо позвонить домой. Я ответила, что он знает, где телефон. Он осторожно высвободился и, не глядя на меня и не оборачиваясь, пошел звонить.
***
Свою профессию я выбрала в знак протеста. Совершенно не переношу вида страданий, особенно если это касается беспомощных существ. Решив стать ветеринаром, я ничего еще не знала ни о себе, ни о мире, но инстинкты, вернее, предчувствия, в этом возрасте могут быть удивительно точными. К десятилетию папа подарил мне большую черепаху. Ее голова как у старой облысевшей дамы, выпученные, с косым разрезом глаза и добродушно-дьявольская ухмылка приводили меня в восторг. Я садилась перед ней на корточки и наблюдала, как она жует свой салатный лист. Я знала, в каких тенистых уголках она любит прятаться, замирая, глядя в одну точку, как будто прислушиваясь к звукам из другого мира. Однажды, когда у нас шли строительные работы, черепаха увязла в свежезалитом бетоне. Вытянув шею, она долго и отчаянно барахталась в быстро затвердевающей массе. Следы агонии застыли в бетоне концентрическими кругами. Я пришла слишком поздно. Не зная, чем ей помочь, я просто свернулась клубочком на крыльце и даже не стала никого звать на помощь — знала, что это бесполезно. Зато с детской горячностью и непреклонностью раз и навсегда решила посвятить свою жизнь животным.
Всем, что я знаю и умею в своей профессии, я обязана Тома д’Оревильи — я имею в виду не сами знания, но как их применять на практике. Он научил меня не доверять тому, в чем я уверена, и всякий раз пересматривать вещи, в которых давно перестала сомневаться. Не поддаваться настроениям, что, мол, “раньше лучше было”, признать, что санитарное положение в мире улучшилось и что наличие огромного количества фармацевтических фабрик — и ведь все прибыльные! — ведет к равенству. Благодаря ему я поняла, что все меняется, все пребывает в развитии. Надо просто научиться ждать.
Согласно его теории, наша с ним работа опиралась на четыре основополагающих принципа: знать — уметь — делать — объяснять.
***
Понтарлье, вечер, ноябрь. Ежась под пронизывающим до костей ветром, я чувствовала себя одинокой, потерянной, нелепой. На перроне остался только старик, он глядел на меня, крутя кончики длинных усов. Это был месье д’Оревильи. Он долго молча изучал меня, и недоумение его росло. Я почти слышала его мысли: “И на что она мне, черт побери? Вобла какая-то, кожа да кости”.
Мы обменялись рукопожатием, понуро глядя друг на друга. Его рука была сухая и узловатая. Мне хотелось спросить, не родственник ли он автора “Дьявольских ликов” [3], но я не могла вспомнить, действительно ли писателя так звали или это псевдоним. Мы молча двинулись к его машине. Я тащила свой чемодан и дорожную сумку, он теребил пожелтевшие концы усов. Меня трясло так, что зуб на зуб не попадал. Атмосфера была мрачнее некуда. И холод собачий.
Это было только начало.
В декабре на моих глазах убило человека. В тот день была метель: ветер достигал неслыханной силы, срывал одежду, беспощадно впивался в тело. На краю дороги, ведущей к хлеву, укрывшись под сосной, нас ждал фермер. Вдруг ледяной шквал тряхнул дерево, и вся лавина снега рухнула с веток на человека, засыпав его с головой. Когда мы с учителем его откопали, он был уже мертвый: ему проломило череп.
А весной я увидела двух окоченевших серн. Они висели на елке на высоте двух метров у меня над головой, как будто привязанные к сучьям. Сколько я ни крутилась вокруг, я не могла понять, как они туда попали. Учитель объяснил, что эти животные любят глодать кору, становясь на задние ноги, чтобы дотянуться мордой как можно выше. Ветки ели, опущенные под тяжестью снега, неожиданно поднялись, увлекая за собой серн. Потом снег растаял, а серны так и остались висеть где-то наверху.
Зимние месяцы были суровыми, таких холодов я в жизни не видывала. Приходилось накручивать на себя всю одежду, какая есть. В коровнике я истекала потом, а на улице дрожала от холода. Весной же на наш унылый городок и окрестные горы, черные, неприступные и прекрасные, обрушились косые ливни.
Пока я училась, Тома д’Оревильи не отходил от меня ни на шаг. Я с головой окунулась в работу, она отнимала у меня все силы. Вскоре я страстно привязалась к моему наставнику. Это был врач старой закалки, нутром чувствующий, где у бессловесного животного гнездится боль. Он умел понимать живых тварей; из всех стонов и криков умел вычленить именно тот, что подсказывал безошибочный диагноз. Чужая боль вызывала у него мгновенное сострадание, он был участлив к мукам своих подопечных. Несмотря на ласковые руки и добрые глаза, когда требовалось, д’Оревильи умел без колебаний и дрожи оборвать жизнь — так поступал бы Ангел Смерти, если бы Бог существовал и питал к нам хоть немного жалости. Я сопровождала учителя повсюду, больше учась на его примере, чем с его слов. Я привыкла превозмогать усталость, не обращать внимания на погоду, а главное — я научилась слушать. В этом мире, где все кричат, уже никто никого не слушает. Это был первый урок д’Оревильи. Уметь выделить из гула один-единственный голос и прислушаться к тому, что он говорит. Он не уточнял, что надо делать дальше, но я с легкостью понимала его скупые объяснения. Я и сама от природы не болтлива, так что мы были под стать друг другу — учитель и ученица.