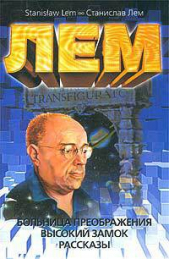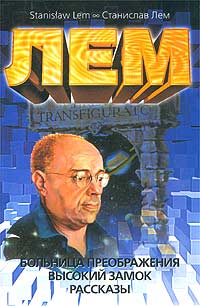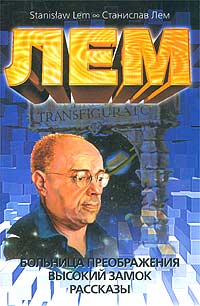Больница преображения. Высокий замок. Рассказы

Больница преображения. Высокий замок. Рассказы читать книгу онлайн
В книгу вошли философско-фантастические романы "Больница преображения", "Высокий замок" и рассказы всемирно известного польского писателя и философа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но еще до этого в поведении доселе молчавшего Гжегожа Недзица, его соседа слева, произошла какая-то перемена. Уже некоторое время он озабоченно вытирал усы, робко посматривал по сторонам и на дверь, словно прикидывая на глазок расстояние; он явно к чему-то готовился. Вдруг наклонился к Стефану и шепотом объявил, что ему пора идти, чтобы успеть на познанский поезд.
— Ты что, хочешь ехать на ночь глядя? — как-то рассеянно удивился Стефан.
— Да, завтра надо быть на работе.
Гжегож стал объяснять, что там, на Познанщине, немцы поляков едва терпят и отпуск на день удалось получить с огромным трудом; всю ночь он добирался до Нечав, а теперь самое время в обратный путь… Оборвав нескладную речь, громадный усач глубоко вздохнул, резко поднялся, едва не потащив за собой скатерть вместе с посудой, и, кланяясь вслепую, на все стороны, стал протискиваться к дверям. Посыпались вопросы, протесты, но на пороге упрямый молчун еще раз отвесил всем низкий поклон и исчез в передней. За ним бросился дядя Ксаверий, вскоре хлопнула входная дверь. Стефан глянул в окно. На дворе уже стояла тьма. Он представил себе долговязую фигуру в куцой солдатской шинели на раскисшей дороге… Посмотрел на опустевший стул по левую руку, заметил, что бахрома низко свисающей накрахмаленной скатерти раскручена и старательно расправлена прилежными пальцами, и в груди защемило от теплой, сердечной жалости к этому, собственно говоря, незнакомому дальнему родичу, который уже вторую ночь кряду будет трястись в темном, холодном вагоне ради того только, чтобы пешком пройти сотню-другую шагов, провожая покойного.
Гости вставали из-за стола, который, как обычно после обильной трапезы, выглядел жалко — на тарелках высились обглоданные кости, облепленные застывшим жиром. Наступило минутное затишье, воспользовавшись которым мужчины полезли в карманы за папиросами; ксендз протирал замшей очки, а тетушка-бабушка впала в тупую задумчивость, которая походила бы на дремоту, если бы не широко открытые глаза. Среди этого всеобщего молчания, пожалуй, впервые прозвучал голос Анели — вдовы. Все еще сидя за столом, не пошевелившись, не поднимая поникшей головы, она проговорила, упершись взглядом в скатерть:
— Знаете, все это как-то смешно…
И голос ее осекся. Напряженного молчания, которое вслед за этим наступило, никто не решался нарушить: ничего подобного никто обычно себе не позволял, никто не был к этому подготовлен. Ксендз, правда, тотчас направился к Анеле, двигаясь с какой-то рутинной озабоченностью, словно врач, которому положено оказать первую помощь, но который не знает, что надо сделать; однако этим он и ограничился, застыл подле нее — она вся в черном, он тоже в черной сутане, с лимонно-желтым лицом и припухшими веками; он стоял и часто моргал, пока не выручила всех прислуга, вернее, исполняющие ее роль деревенские бабы, которые вошли и с невообразимым шумом принялись собирать тарелки и блюда.
В полумраке гостиной, рядом с поблескивающим стеклами дубовым книжным шкафом, под бронзовой, слегка коптящей керосиновой лампой с абажуром апельсинового цвета, дядя Ксаверий объяснялся торопливым полушепотом с родственниками. Одних уговаривал переночевать, других информировал о расписании поездов, распоряжался, когда кого будить; Стефан хотел было немедля отправиться в обратный путь, но, узнав, что поезд у него только в три часа ночи, заколебался, дал себя уговорить и решил остаться до утра. Ночевать ему предстояло в гостиной, напротив часов, поэтому пришлось ждать, пока все разойдутся. Когда это наконец произошло, была уже почти полночь. Стефан быстро умылся, разделся под едва-едва мигавшей лампой, задул ее и, зябко поеживаясь, скользнул под холодное одеяло. Сонливость, одолевавшую его до этого, как рукой сняло. Он долго лежал на спине без сна, а часы, едва различимые в кромешной тьме, величественно, с каким-то чрезмерным рвением, вызванивали четверти и часы.
Мысли его, поначалу неопределенно-туманные, цеплялись за сценки пережитого дня, однако неторопливо и как бы преднамеренно бежали в одну сторону. В характере всего семейства сошлись лед и пламень, горячность и упрямство. Тшинецкие из Келец славились алчностью, дядя Анзельм — вспыльчивостью, тетка-бабка — неким, сглаженным временем любовным безумством; эта роковая черта проявлялась у каждого в семействе по-своему: отец был изобретателем, всем остальным занимался из-под палки, от мирских забот отмахивался, как от мух, часто путал дни недели, дважды проживал четверг, а потом выяснялось, что проворонил среду, но это не была обыкновенная рассеянность, только чрезмерная сосредоточенность на идее, которая в данный момент его обуревала. Когда отец не спал и не болел, можно было дать голову на отсечение, что он торчит в своей крохотной, оборудованной на чердаке мастерской, среди пламени спиртовок и газовых горелок, в окружении раскаленных инструментов, вдыхая запах кислот и металлов, и что-то к чему-то прилаживает, что-то шлифует, что-то сочленяет, и все эти манипуляции, из которых складывается процесс поиска, никогда не прекращались, хоть и менялись направления экспериментов, — от одной неудачи отец шествовал к другой с одинаковой верой, со страстью, настолько мощной, что на посторонних производил впечатление одержимого или законченного безумца. В Стефане он никогда не видел ребенка. С мальчонкой, появлявшимся в полутемной мастерской, он разговаривал как со взрослым, причем таким, который, например, плохо слышит, и потому беседа с ним постоянно обрывается, оба то и дело друг друга не понимают. Невзирая на это, отец — с набитым шурупами ртом, в прожженном халате, переходя от токарного станка к тискам, а от них снова к токарному станку, — говорил с сыном так, словно читая лекцию, прерываясь, чтобы с головой погрузиться в какую-нибудь операцию. А о чем он говорил? Стефан теперь и не помнил толком, ибо, когда слушал эти речи, был слишком мал, чтобы понять их смысл, но, кажется, говорил отец примерно так: «Того, что было и миновало, нет, точно этого вообще никогда не было. Это вроде пирожного, которое ты съел вчера, никакого тебе от него толка. Поэтому можно себе приделать прошлое, которого у тебя не было: стоит в него только поверить, и будет так, словно ты его и в самом деле прожил».
А однажды сказал ему такое: «Разве ты хотел появляться на свет? Ведь нет же — правда? Ну не мог же ты хотеть, если тебя не было? Видишь ли, я тоже не хотел, чтобы ты родился. То есть хотел сына, но не тебя, ведь тебя я не знал — значит, не мог и хотеть тебя… Хотел сына вообще, а ты — реальный…»
Стефан, собственно, редко заговаривал с отцом и ни о чем его не спрашивал, но как-то (было ему лет пятнадцать) все-таки спросил, что отец сделает, когда у него получится его изобретение? Тот нахмурился, долго молчал, а потом ответил, что займется изобретением чего-нибудь еще. «Зачем?» — тут же спросил Стефан. Вопрос этот, как и первый, был продиктован глубоко скрываемой, но нарастающей с годами неприязнью к своеобразной профессии отца, которая — это подросток знал слишком хорошо — была предметом всеобщих издевок, и тень от отцовского чудачества падала и на него. Старший Тшинецкий ответил подросшему сыну так: «Стефек, так спрашивать нельзя. Видишь ли, если бы умирающего спросили, хочет ли он прожить жизнь заново, он наверняка согласился бы и вовсе не стал интересоваться, зачем ему жить. Так и с моей работой».
Эта работа, подвижническая и изнурительная, не приносила ничего, дом содержала мать — точнее, ее отец. Следовательно, отец был на иждивении жены, и это до такой степени возмутило Стефана, когда он об этом узнал, что некоторое время презирал отца. Подобные, хоть и менее сильные, чувства питали к Тшинецкому его братья, но с годами это как-то постепенно сгладилось: то, к чему за долгое время люди привыкают, в конце концов им надоедает. Пани Тшинецкая любила мужа, но, к сожалению, его занятия были выше ее понимания: супруги вели друг против друга партизанскую войну, хотя почти и не догадывались об этом, поскольку было это противоборство предметов, принадлежащих к двум сферам: мастерской и жилищу; отец и думать не хотел о том, чтобы превратить квартиру в продолжение мастерской, но это происходило как бы само собой; на столах, шкафах и секретерах вырастали горы проволоки и металла, а мать тряслась над своими скатертями, кружевными салфетками, рододендронами и араукариями; отец не жаловал этот огород, исподтишка подрезал корни, тайно радуясь симптомам увядания, мать во время генеральных уборок смахивала то какой-нибудь бесценный кабель, то какую-нибудь незаменимую шайбу, и все это делалось без задней мысли. Погружаясь в работу, пан Тшинецкий словно отправлялся в далекое путешествие, а возвращался оттуда только сраженный очередным приступом болезни. Хотя пани Тшинецкую действительно тревожили хвори супруга, полнейшее спокойствие она обретала лишь тогда, когда муж лежал в постели, стонущий, беспомощный, обложенный грелками, ибо тогда-то она по крайней мере понимала, что ему нужно и что с ним происходит.