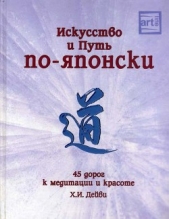Студия сна, или Стихи по-японски
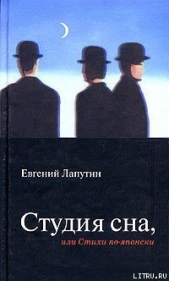
Студия сна, или Стихи по-японски читать книгу онлайн
«Студия сна...» — роман-отражение, история-перевертыш, изящная музыкальная шкатулка, построенная на симметрии. Тема романа — двойники и удвоения всяческого рода.
Книга наполнена странными персонажами: близнецами, женщинами-русалками, генералами несуществующих армий, тургеневскими барышнями, андрогинами и шизофрениками всех мастей и видов. Двумя разными путями вся эта компания движется к открытому финалу, выписанному автором прямо-таки с хирургической точностью.
Роман выдвинут на премию «Национальный бестселлер».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скорее движеньями пальцев, подергиванием бровей и причмокиванием, но не ясными вразумительными словами он как-то поделился своими соображениями на сей счет со своим старинным приятелем Трезубцевым, но тот в ответ заохал, запричитал, сказал, что он, Антоша, не понимает того, что говорит, и именно поэтому был выгнан разъярившимся Побережским из дома с наказом никогда и нигде не появляться больше на глаза.
На что надеялся Побережский, когда с бесконечным тщанием просматривал все новые и новые газеты? Он прекрасно понимал, что большинство из женщин, якобы скромно сообщающих о своих милых достоинствах, на деле являются проходимками и мошенницами. Он также понимал, что уже никогда не найдет женщины, внутри которой будет магнит той же силы, который некогда был спрятан внутри Лидии Павловны и который некогда накрепко, навечно притянул его к себе. Но он знал наверное, что в соответствии с законом двойников на земле еще есть полное подобие его умершей супруги. Он не имел в виду копию; напротив, случись на пороге его дома появиться женщине, внешность которой повторяла бы внешность Лидии Павловны, он бы воспринял это равнодушно и разочарованно, сочтя подобную схожесть проделками всего лишь старательного театрального гримера. Приходила на ум простая и понятная аналогия о разнице между настоящей картиной и ее дешевым типографским бумажным повтором.
И снова: но он знал наверное, что в соответствии с законом двойников на земле еще есть полное подобие его умершей супруги. Она могла оказаться немкой или англичанкой, она могла по-другому подвивать себе волосы, она могла быть, например, левшой… но вспышка мгновенного взаимного узнавания, но тепло, брызнувшее из воспаленных, изождавшихся сердец, будут точно такими же, какими они были когда-то, когда на перроне Казанского вокзала Антон Львович, еще с пушком над верхней губой и щеках (лишь десятилетие спустя превратившимся в колкий ворс смоляных усов и пару роскошных строгих бакенбардов, застывших, словно охранники в тулупах, по бокам вечно бледного лица), поднял выскользнувший из-под мышки Лидии Павловны ее изысканный ридикюль, откуда тихо выкатился лишь тюбик губной помады с высунутым красненьким язычком.
В тот день первой их встречи все случилось так, как обычно и бывает: они обменялись взглядами, улыбками, рукопожатиями и именами, хотя, как потом признавались друг другу, из всего перечисленного, если речь шла о случайных столкновениях, прежде они позволяли себе лишь первое, да и то старались делать это побыстрее и понезаметнее. Первый разговор по телефону — позвонил Антон Львович, успев изрядно намучиться с собственным указательным пальцем, от дрожи никак не желавшим попадать в нужные дыры телефонного диска. Первое свидание — была заказана отдельная ложа в театре, но вспомнить, что там было на сцене, впоследствии не было никакой возможности, хотя Лидия Павловна, тоже заплетающимся от волнения язычком, по дороге домой, кажется, похвалила игру актеров, один из которых, сдается, умирал, зато другой оставался целехоньким и даже что-то там пел под могильное завывание музыки из оркестровой ямы. Что еще, ну, скажем, первый поцелуй — его губы робко прикоснулись к щеке Лидии Павловны, но ее голова повернулась, словно глобус, и в его распоряжении оказалась ракушка губ, с которыми, надо сказать, он не очень знал что и делать, стараясь забыть и собственный опыт давнишнего дачного романа, и уроки одной немолодой замужней дамы, всегда превращавшей целование в череду обоюдных кровожадных укусов.
Прикасаться к этим воспоминаниям Лидии Павловны было больно и страшно, как к корочке, схватившей поверхность глубокой, но подживающей раны. Но они таили в себе и немалую пользу: было заранее известно, как все будет складываться с новым ее воплощением, которое, предчувствуя встречу, уже томилось где-то там, в своем, пока еще неведомом доме, чаще обычного подходя к зеркалу, чтобы сверить свое изображение с обликом той женщины, которую с распростертыми объятиями был готов встретить Антон Львович Побережский.
Вспоминалось и вот еще что. Знакомство с ее родителями, двумя насекомоподобными существами, с шустрыми и суетливыми движениями тонких серых конечностей, с неопрятными — которые у мамы были длиннее — усиками под ноздрями, с абсолютной неслышностью, ставшей заметной еще больше, когда папа выронил из руки шахматную фигуру, какой он заманивал будущего зятя на партеечку, тогда же и сыгранную по правилам домашним и скучным, то есть с зевками, взятием ходов назад и громоздким матом белому королю, по воле жребия попавшему в распоряжение Антона Львовича.
Их первые девять лет совместной жизни, три тысячи двести восемьдесят семь счастливых ночей, около семи тысяч блаженных, почти смертоносных замираний сердца, когда не хватало воздуха, зато внутри крепко зажмуренных глаз зажигались яркие красные огни, выступающие каплями крови на крепко прикушенной нижней губе. Лидия Павловна, приходившая в себя много медленнее, чем он, приподнималась на локте и удивленно оглядывалась по сторонам, совсем не понимая, что приключилось с ней и где, собственно, она находится, и лишь его кровь, сочно ползущая по подбородку, окончательно приводила ее в чувство. Она нежно целовала эту кровь, а потом слизывала единым взмахом языка, предъявляя потом его, красного — словно после поедания спелой черешни, — Антону Львовичу.
Первые девять лет она не могла забеременеть, что вовсе не заботило Побережского, уже понимавшего, что любовью к жене он не сможет уже никогда поделиться ни с кем, даже с собственными детьми. Ее известие о беременности никак не удивило его, как, скажем, не удивило бы его и сообщение о том, что внутри арбуза находятся косточки. У нее очень быстро рос живот, зато почти не менялось лицо, не считая двух пигментных пятен и заметного удлинения ресниц. Последние два месяца ею овладела ужасная сонливость; она говорила, что каждый вечер ощущает себя маленьким камушком, что мгновенно скатывается в бездонную черную пропасть. Этим время от времени пользовался Антон Львович, который, несмотря на запрет наблюдавших ее докторов, аккуратно вдавливался в нее сзади, чтобы потом, после вспышки очаровательного облегчения, снова, уже в миллионный и миллиардный раз, уткнуться губами в ее холодное ухо и вышептать туда все слова своей безумной и бесконечной любви.
Нет, не было ничего подобного в отношении к собственным детям, хотя младенцы были вполне элегантны, просты в обращении и молчаливы по ночам. Антону Львовичу постоянно докладывали что-то об их аппетите; наверное, он, аппетит, был отменным, наверное, ту скользкую и слизистую пищу, что с серебряных ложек помещали в их малозубые рты, они поглощали с жадностью и удовольствием, с жадностью и удовольствием же впоследствии переваривая ее.
Но не было, никак не было долгожданного звонка во входную дверь, того звонка, который деликатно передал бы трепет пальца, произведшего его. Наверное, платье ее, как мы привыкли читать в старинных романах, было бы припорошено дорожной пылью, наверное, ее глаза источали-излучали ту милую тревогу и робость, в которых так поскорее ее захочется разуверить! Она представится по-польски? по-немецки? по-черт-те-знает какому? Но тотчас же внутри найдутся слова ответа на этом же языке, что, надо сказать, приведет к мимолетному удивлению: как, ведь я же и не знал, что знаю…
Где ты была, голубушка? Ведь это не тебя положили в тяжелую лодку гроба, ведь я знаю наверное, что это злой кукольник постарался, смастерив из бледной гуттаперчи, увы, подробное подобие тебя. Где ты была, единственная нежность и радость моя? Ведь не тебя отправили в бесконечное подземное плавание, оставив меня, задыхающегося от отчаяния и захлебывающегося от слез, одного. Где ты была, дрожь моих пальцев, блеск моих глаз и стоны моего влюбленного сердца? Ведь с твоим уходом мир обезлюдел, а я, несчастный и безутешный Робинзон, мог только лишь плакать, не уставая надеяться, что по следам моих слез ты найдешь дорогу домой. Где, где ты была, мой сон и моя явь? Ведь ты бессмертна и бесконечна, ибо в противном случае и мое появление на земле является бессмыслицей и случайностью. Где, где ты была!..