Слезы и молитвы дураков
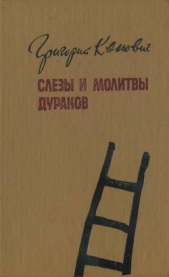
Слезы и молитвы дураков читать книгу онлайн
Третья книга серии произведений Г. Кановича. Роман посвящен жизни небольшого литовского местечка в конце прошлого века, духовным поискам в условиях бесправного существования. В центре романа — трагический образ местечкового «пророка», заступника униженных и оскорбленных. Произведение отличается метафоричностью повествования, образностью, что придает роману притчевый характер.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хрю-хрю!
— М-у-у!
— И-го-го! — требовали чего-то от него, но чего именно, он не мог понять.
— И-го-го! — вдруг заливисто, во весь голос заржал человек в ермолке.
Он залился, как заправский конь, и разрывавшее гортань ржание было не столько звуком, сколько иносказанием, заключавшим в себе более высокий смысл, чем вызов или приветствие.
Лошадь урядника втянула ноздрями сыроватый заревой воздух, заметалась в стойле, повернула голову и залилась ответным и благодарным ржанием.
— И-го-го! — донеслось из стойла.
— Ардаша! Ардаша! — растормошила спящего Нестеровича испуганная Лукерья Пантелеймоновна.
— Что? — спросонья, как с похмелья, спросил урядник.
— Ты ничего не слышишь?
— Не, — бросил Ардальон Игнатьич и прислушался.
— И-го-го!
— И-го-го!
Ликующее ржание сотрясало хлев.
— Кузя ржет, — установил урядник. — Жеребца требует.
— Только ли Кузя? — неуверенно процедила Лукерья Пантелеймоновна, прикрывая краем платка большой, как полумесяц, рот.
Ардальон Игнатьич замер и для вящей убедительности отогнул шершавой ладонью замороченное дремотой ухо.
— Иисусе сладчайший! — пропел он. — Откуда у нас взялась вторая?
— Не знаю, — ответила Лукерья Пантелеймоновна, и испуг раздавленной земляникой пометил ее серое неподвижное, как икона, лицо, — И корова мычит… до сих пор не доена… Боюсь, Ардаша, боюсь, — честно призналась она.
— Ты чего — лошади испугалась?
— Дак их же две, — пробормотала Лукерья Пантелеймоновна. — Пойдем, Ардаша, вместе… боязно мне одной…
Нестерович неохотно встал, медленно, с какой-то ленивой торжественностью натянул портки, распушил пшеничные, закрученные на манер государя-императора усы, вынул из ножен шашку, несколько раз рубанул в горнице воздух, покровительственно глянул на жену и двинулся к двери.
— Отпустил бы ты его, Ардаша, — сказала Лукерья Пантелеймоновна, когда они вышли во двор.
— Нуйкин опять скажет: жида пожалел… преступника…
— Какой же он, Ардаша, преступник? Нешто сам не видишь?
— Мало ли чего я, мать, вижу, — огрызнулся Ардальон Игнатьич. — Своего же блага ради иногда глаза-то и прикрыть можно.
Ардальон Игнатьич уже сам почти жалел, что взял бродягу под стражу и запер в хлев. Но два соображения останавливали его. Во-первых, он не хотел в глазах жены ронять свое начальственное достоинство, а во-вторых — не привык отпускать даром. Достоинства, положим, не убудет, но и доходу не набежит. У бродяги ни гроша за душой нет. И никто за него в местечке не заплатит. Как ни дружны евреи, а деньги считают врозь…
Уступая напору Лукерьи Пантелеймоновны и заранее смирясь с убытком, Нестерович решил еще раз допросить бродягу и, ежели ничего нового на поверхность не всплывет, отпустить его с миром, нечего три раза на дню дармоеда кормить.
Сквозь щель в хлев сочились лучи солнца, и пыль, клубившаяся в воздухе, казалась живой мошкарой.
Ардальон Игнатьич поправил на боку шашку и, стараясь придать своему голосу не свойственную ему доверительность, сказал:
— Доброе утро, почтенные.
Не поприветствуешь же одного арестанта: еще нос задерет, подумает бог весть что. А заодно со скотиной, оно и вежливо, и благонадежно.
— М-у-у! — отозвалась корова.
— Хрю-хрю, — засуетились подсвинки.
— И-го-го, — протянул арестант.
— Ты чего дурака валяешь? — приструнил его урядник. — А ну-ка, слазь.
Человек в ермолке неохотно съехал с кладки. Он был весь облеплен сеном. Былинки торчали у него из ушей, и брови были в колючках.
Лукерья Пантелеймоновна поставила подойник, растерла руки и принялась оттягивать пухлые коровьи соски, свисавшие, как мартовские сосульки.
Сосульки растаяли, и человек в ермолке услышал, как на дне подойника зазвенели струйки.
— Как спалось? — глядя на бродягу, как на поросший репейником пустырь, осведомился Ардальон Игнатьич.
— И-го-го, — раззявил рот пришелец.
— Хочешь, чтобы я тебя к Нуйкину отправил? — пригрозил урядник. — Он не посмотрит, что ты того. — Нестерович сделал рукой неопределенный вращательный жест. — Для него все враги отечества — того… Объявит тебя врагом, и пойдешь в Сибирь как миленький… Будет тебе тогда «и-го-го». Пошли! — предложил он, не скрывая раздражения.
Пришелец почтительно кивнул головой.
— Покурим, — сказал Ардальон Игнатьич, когда они вышли из хлева.
Нестерович запустил руку в глубокий, до самой коленной чашечки, карман, извлек оттуда кисет, набрал щепоть махры, протянул арестанту, но тот отказался.
— Некогда мне, братец, с тобой возиться. Работы невпроворот. Покажи документ! Честь по чести… Как положено!.. Черным по белому!..
Ардальон Игнатьич свернул козью ножку, зажег ее, затянулся, задохнулся дымом, прослезился от кашля, вытер рукавом глаза и буркнул:
— Давай начистоту! Без всяких Иовов и увясел. Имя, фамилия, звание?
Человек смотрел на огонек козьей ножки и молчал.
— Не гневай ты меня, — предупредил его Ардальон Игнатьич. — Передам Нуйкину, он из тебя душу вышибет.
— Разве у лошади спрашивают имя? Или у коровы? Или у свиньи? — пригасшим голосом сказал бродяга.
— Но ты же не лошадь!.. Ты же не свинья! Че-ло-век!
— А что значит имя одного человека… мое… ваше… когда имя целого племени — пустой звук?
— Опять выкручиваешься!
— Нынче время кличек, а не имен… Моя кличка — Сумасшедший… Так зовет меня жена… Так зовут меня дети… Так зовет меня каждый… даже раввин. И все довольны… и все просто и легко… Сумасшедшего можно не слушать. Что из того, что он пророк? Что из того, что он один плачет, когда все пируют за чумным столом? Сумасшедшего можно объявить врагом отечества, когда он его единственный друг. Сумасшедшего можно в конце концов объявить нормальным, если для назидания толпы его надо вздернуть.
— Послушай, — почти взмолился урядник. — Уж больно ты мудрено говоришь. Нельзя ли попроще: я Сидоров, Петров, Коган, Файнштейн!
— Можно и попроще, — неожиданно согласился человек в ермолке. — Меня зовут Цви.
— Это что — фамилия или имя?
— Имя. Оно означает — олень.
— Так.
— Фамилия — Ашкенази… Цви Ашкенази…
— Красиво!.. Не то что Нестерович!.. Цви Ашкенази!..
Ардальон Игнатьич перекатывал во рту чужое имя, посасывал его, как леденец, пробовал на зуб, и человек в ермолке смотрел на него и думал, как мало нужно, чтобы насытить любопытство урядников. Назовись кем угодно — только назовись. Безымянность подозрительна, опасна, все должно быть поименовано, перечислено, внесено в реестр, подшито и разложено по полкам, налево — полка с бродягами, направо — с оседлыми, вверху — с евреями, внизу — с русскими или литовцами. В империи должен быть порядок: от хлева до царствующего дома. Порядок, порядок!.. Тысяча раз порядок!..
— Мещанин? — допытывался у арестанта урядник.
— Мещанин.
— Год рождения?
— Одна тысяча восемьсот сорок первый.
— Место?
— Местечко Бобрино.
— А почему раньше скрывал?
— А признание что изменило бы?.. Для того чтобы запереть человека в хлев или сослать на каторгу, не нужны ни имя, ни год рождения, ни документ.
— А что же нужно? — опешил Ардальон Игнатьич.
— Власть и желание, — ответил человек в ермолке.
— И вина, — пробормотал Нестерович.
— Власть всегда может превратить свое желание в чью-то вину.
Ардальон Игнатьич бросил козью ножку, затоптал ее носком сапога, отстегнул ворот рубахи, почесал костяшками пальцев кадык и с почтительным пренебрежением спросил:
— Где это ты, Цви Ашкенази, всего этого нахватался?
— За верстаком, — просто сказал человек в ермолке. — Тыкаешь шилом в подошву и думаешь. За четверть века всякое можно придумать. А порой и дня хватает… Садишься поутру сапожником, а вечером встаешь со стульчика посланцем бога…
— Так ты, выходит, сапожник? — обрадовался Нестерович. — Чеботарь? Это хорошо. Это очень хорошо. Посланец бога — не ремесло. И урядник — не ремесло, — задумчиво сказал Нестерович. — Ремесло — не служба, мастера в рядовые не разжалуешь.


























