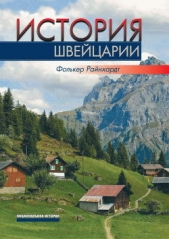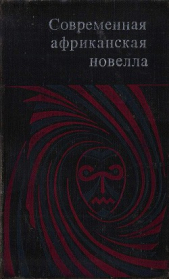Современная швейцарская новелла
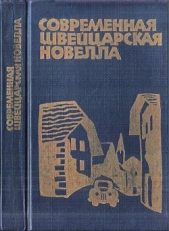
Современная швейцарская новелла читать книгу онлайн
В сборник вошли рассказы видных швейцарских писателей, пишущих на немецком (М. Фриш, А. Мушг, П. Биксель и др.), французском (Ж. Шессе, К. Бий и др.), итальянском (Д. Орелли, Дж. Орелли, Д. Боналуми) и ретороманском (Кла Бирт) языках. В рассказах дана широкая картина швейцарской действительности последних десятилетий, отражены глубокие социальные и нравственно-психологические проблемы, волнующие швейцарское общество.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этом я никогда не лгал — во всяком случае, на словах. Я никогда не оставлял места для сомнений в том, что в юриспруденции понятие справедливости не выдерживает критики; уточню — только понятие справедливости, ибо оно в принципе бесчеловечно. Установленная обществом государственная власть всегда испытывала правомерную потребность устранять с дороги все, что ей мешает, — но сейчас она предпочитает делать это чужими руками; если угодно, будем считать это плодами прогресса. И она удовлетворяет эту потребность за счет специально созданного аппарата — суда, — называя его в отличие от исполнительной и законодательной власти третьей властью. По какому праву государство вообще присвоило себе власть, хотя столько народу, и отнюдь не без оснований, с ним не согласно, — этот вопрос ни обсуждению, ни юрисдикции не подлежит. Стоит усомниться в этой логике, а тем паче начать действовать и жить наперекор ей — тут-то и выходит на авансцену всемогущая фемида в тоге непредвзятости, на то ее и держат, чтобы утихомиривать недовольных и именем непогрешимого Права приговаривать к различным формам молчания. Какими правдами и неправдами это наше пресловутое Право ухитрится всякое несогласие с властью обратить в преступление — это уж его забота. Главное — обеспечить результат: неприкосновенность власти. Это не вопрос справедливости, а вопрос сугубо практический; если его можно уладить с помощью формулировок и средств так называемого «позитивного», действующего права — тем лучше и проще; если нет — значит, нет, тогда в ход идут иные методы. В конце концов, ни в одном государстве право не является единственным инструментом охраны порядка. Формальная завершенность юридического кодекса противостоит грозным противоречиям живой жизни, как некое сито, которое улавливает всякое несогласие, чтобы потом перемолоть его в жерновах закона и объявить противоправным, пока оно не переросло в сопротивление власти. Не обнажить ненароком механизмов власти, в особенности же интересов властей предержащих, — вот, в сущности, главная задача современного правосудия. Бунт надо удерживать на уровне мелких беззаконий; для этого, однако, правосудию необходимо тщательно скрывать от самого себя очевидную истину, что право всегда оставалось не чем иным, как средством правдоподобного обоснования существующей власти. Ради сохранения этого правдоподобия и создается видимая независимость права, опирающегося, якобы, исключительно на свод законов.
Но довольно общих мест. Вы сами видите: на благодетельность права я уповаю не больше, чем на милость психиатрии. Меня даже не особенно манит перспектива испытать на себе действие законов, так сказать, по другую их сторону — не в качестве их блюстителя, а в роли жертвы. Смысл моего деяния вовсе не в том, чтобы столь изощренным способом доказать себе или другим мою вменяемость, — если и был в нем смысл, то только не этот. Моя страсть к правоведческим казусам давно утолена и способна будоражить мою фантазию ничуть не больше, чем наивное желание выставить однажды на всеобщее обозрение аппарат, коему я столь доблестно служил, в истинном свете. Избавьте меня от пристального интереса философов и социологов; если мой поступок что и доказывает, то сфера доказательства совсем не из этой области. Я поступил так потому, что просто не мог иначе, вот и все. Я плохо переношу насмешки, дорогой коллега, и уж вовсе не терплю, когда надо мной издеваются. Вот почему я и застрелил господина Бикеля. Хотите, будем считать это самообороной?
Понимаю, что я должен объясниться. То есть я не должен этого никому и ни в коей мере, я делаю это исключительно в угоду себе и со спокойной душой, ибо знаю, что мое объяснение останется между нами. Не потому, что я высокого мнения о Вашей скромности. Это само собой. И все же: Вы, конечно же, воспользовались бы моим объяснением, если бы могли с его помощью выбраться из западни моего дела или — это я тоже охотно допускаю — если бы объяснение это хоть сколько-нибудь говорило в мою пользу. Но оно не поможет и не скажет, оно не говорит даже само за себя. Если угодно, оно вообще не говорит. Единственным его языком был выстрел.
Я вырос, дорогой коллега, — впрочем, мои анкетные данные приобщены к делу — в так называемой «простой семье». Мои родители еле-еле сводили концы с концами, да и то лишь из боязни потерять уважение соседей. Отец был служкой в крохотном деревенском приходе, с чрезмерной истовостью отдавался своей вере и скромной должности, которые, как он думал, ниспосланы ему богом и власть имущими. Здоровье он надорвал еще в молодости, умирание продолжалось несколько лет, все болезни такого рода у нас в ту пору называли «сухоткой». Разумеется, невзгоды и нищета ничуть не мешали (скорее, наоборот) моему отцу свято верить в справедливость, которой он так и не изведал в жизни, и рьяно насаждать ее среди своих подданных. Подданными были мы, его близкие. Иные субботние вечера мы целиком посвящали тому, чтобы поддержать исповедями своих грехов главу семьи, который с пристрастием нас допрашивал: мы понимали, что, определяя каждому из нас очередное наказание, отец вымаливал у нас жизнь. Изо всех сил мы старались не желать ему смерти, тем не менее он умер. Мать, которая на своем веку так и не научилась ни во что, даже в самое себя, верить, после его смерти ударилась в крайнюю набожность, словно надеялась молитвами вернуть себе прежнюю жизнь при муже, хотя именно он ее жизнь и растоптал. Только благодаря своим, как их тогда называли — «истерическим», припадкам она сумела пережить мужа на пятнадцать лет. Во время этих приступов — для нас, детей, особенно для меня, старшего, это всегда было сущим адом — ей удавалось излить в крике худшие из бед, которые терзали ее дух и скудную плоть. Поскольку все, что предшествует зачатию, наши родители считали «греховным искусом», нас, детей, воспитывали в праведной строгости. Они обрушивали на нас, а прежде всего на меня, все свои печали, называя их надеждами, и вся моя юность прошла в страхе эти надежды обмануть, в стремлении загладить двусмысленность моего появления на свет и пощадить хрупкие, всегда чреватые безднами вселенского отчаяния чувства моих родителей. Конечно, потом они все равно умерли — и конечно же, из-за нас; но несколько лет жизни — так я чувствовал — я для них все-таки «выторговал» своим примерным поведением. А вел я себя очень примерно, дорогой коллега, потому что у меня к тому же были «способности» — еще один долг, который следовало кому-то возмещать. Сперва мне помогал «выбиться в люди» наш церковный приход, а потом, когда я все-таки не захотел учиться на священника, поддержала община родной деревни.
Думаю, нет смысла перечислять этапы моего жизненного восхождения. Кое-что успел изложить в своей laudatio [42] господин декан, а остальное, поскольку я вынужден был его прервать, Вы найдете в моем деле. Импульс, сообщенный мне в детстве, сослужил мне в университете добрую службу. Мой стремительный взлет — сперва подающий большие надежды студент, потом адвокат с блестящей репутацией виртуоза, наконец профессор уголовного права — был, если угодно, всего лишь делом техники; иных секретов моей карьеры ни Вы, ни я тут не найдем. Если бы в нашем деле присуждалась Нобелевская премия, я бы вполне мог ее получить; радуйтесь, что эхо моего выстрела на академических торжествах разнеслось не столь далеко. Сам выстрел был неотвратим. Говорю об этом не без горечи, но сожалею вовсе не о господине декане, а о собственной, по всем истинно человеческим меркам — худосочной, никчемной жизни. Я был мужем, но не другом своей жены; был отцом своих детей, но даже не их знакомым; трудами я изнурял свое тело, но я не жил в нем. Я упражнял свой ум игрой мысли, но не умел радоваться этой игре и, что еще хуже, уважать себя как мыслящее существо. Таковы аббревиатуры, раскрывать которые мне не хочется, ибо я не сочинитель. Думаю, их будет достаточно, чтобы в общих чертах обрисовать душевное состояние, которое я — за неимением лучшего и из неприязни к банальностям — обозначаю словом «незрелость».