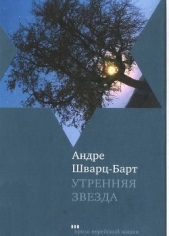Жан-Малыш с острова Гваделупа
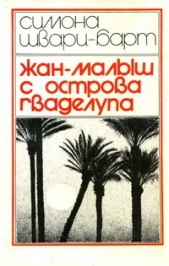
Жан-Малыш с острова Гваделупа читать книгу онлайн
Роман Симоны Шварц-Барт, с которой советский читатель знакомится впервые, — это повествование о проблемах Гваделупы, написанное в форме притчи и наполненное сказаниями Антильских островов. В этом многоплановом произведении автор размышляет о свободе и рабстве, любви и верности, о смысле человеческого существования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Учитель, не надо ли закрыть окно? Колдун осторожно опустил его локоть на место.
— Молчи, это Силы Тьмы…
И, видя, что Жан-Малыш, не понимая, разинул от удивления рот, Эсеб едва слышно произнес:
— Окно распахнулось в твоей груди…
А вихрь в комнате тем временем совсем обезумел, завывал так, что казалось, стены вот-вот рассыплются.
В животе Жана-Малыша открылась щель, когтистый ветер медленно раскрывал рану все шире и шире, прошло бесконечно долгое время, и наш герой не выдержал, соединил пальцами края рваной бреши и простонал:
— Учитель, я больше не могу этого вынести…
— Итак, ты хочешь сдаться, — сказал Эсеб.
— Учитель, в мое чрево проник вихрь, он вот-вот унесет меня; бросьте мне веревку, я буду за нее держаться.
Голос Эсеба стал совсем далеким и глухим, в диком вое ветра он был едва слышен:
Никакая веревка тебя не удержит, лишь разум может тебя спасти. Слушайся его, сын мой, и только не жалуйся на судьбу, даже в душе не жалуйся, не уподобляйся тем, кто чуть что начинает визжать, как поросенок так визжать, что на краю света слышно; но, если станет невмоготу, можешь произнести несколько слов, только тихо…
— Каких слов? — взмолился Жан-Малыш.
— Да любых, лишь бы они были сказаны мне спокойно, будто ты опираешься на плечо друга; ты только не кричи, не кричи…
— Учитель, я унесся далеко, и мне не хватает слов…
— Вздохни посвободней и не спеша повторяй за мной ровным голосом:
О дух земли
Великий необъятный дух
Взываю я к тебе
И ты меня поймешь
Ночною птицей я лечу
А говорю как человек
Взываю я к тебе
И ты меня поймешь…
С заклинанием слилась светлая мелодия, в которую вплелись далекие удары тамтама, принесенные вечерним бризом вместе с запахом трав Варфоломеевой горы. Жан-Малыш как раз отрывал прилипший к телу листок, когда услышал эту музыку. Он тотчас опустил наземь котомку матушки Элоизы и замер, стараясь вслушаться в песнь, лившуюся в уже потемневшей долине. Там, далеко-далеко, блестело в лучах заката зеркально-красное плоское блюдо Верхнего плато, а над землей, плыли последние звуки бесконечно грустной и бесконечно величественной песни, которая раз и навсегда распахнула перед его детской душой двери в иные миры. Но голос уже затихал, дробь тамтама таяла в вечернем воздухе, и от солнечного фейерверка осталась лишь узкая полоска света — щель между двумя почти сомкнувшимися створка ми гигантских небесных ставней. Потрясенный герой увидел старого Эсеба, сидевшего, как и прежде, у края нарисованной мелом лодки с поджатыми под себя ногами; по комнате разлилась могильная тишина, которая, казалось, пугала колдуна: он судорожно сжал руку простертого на полу героя.
— Теперь я уже бессилен помочь тебе, — сказал он, а из-за горизонта вдруг начала подниматься исполинская черная тень.
Одна челюсть звероподобной тени уходила под облака, другая скользила по асфальту улиц, готовая подцепить все что окажется на пути. Глаза ее застилала матово-белая пелена, а огромные зубы были прозрачны, как стекло. Жан-Малыш схватил мушкет, забросил на спину котомку и очертя голову кинулся прочь по пустым улицам города, а Смерть с разверстой пастью гналась за ним по пятам. Его опавшие крылья волочились по асфальту, он метался от дома к дому и кричал: «Я Жан-Малыш, пустите же меня, пустите!» Но двери оставались наглухо закрытыми, и он мчался дальше, гонимый тяжким ледяным дыханием, которое пронизывало ему спину, поднимало в воздух смерчи острых песчинок. Добежав до моря, он увидел чернокожую женщину, стоявшую в воде в нескольких шагах от берега: она простирала к нему пленительные руки. Лицо ее заволакивал тонкий, поднимавшийся от щек пар. Но было что-то теплое, до боли знакомое в черном великолепии этого тела; ее косы тяжелыми кольцами охватывали живот, будто прикрывая целый выводок присмиревших в материнском чреве, за полупрозрачной кожей, детей — может, пять, может, шесть, а может, и целая дюжина их сплелась в комочек, плотно сжав ротики, терпеливо ожидая, когда им позволят появиться на свет. На губах ее играла едва заметная улыбка, улыбка женщины, которой известно, что ее любят, любят страстно, что ради нее пойдут на край света, спустятся в Царство Теней… и у Жана-Малыша брызнули из глаз слезы, он бросился в морскую пену, рыдая, как дитя: почему ты покинула меня, бросила у фигового дерева, почему?
Не вымолвив и слова, она обвила его руками и потянула в глубину, увлекая все дальше и дальше в море, в ледяной мрак, пока они не оказались под скалистым, Уходящим в бесконечную даль сводом, похожим на каменное небо Царства мертвых. Она засмеялась, обнажая стеклянно-прозрачные зубы, а волосы ее, цепкие, словно водоросли, увлекали его на самое дно океана. Напрасно Жан-Малыш сопротивлялся, пытаясь высвободиться из ее объятий. И тут его охватила неудержимая ярость: как она посмела улыбаться улыбкой Эгеи, Эгеи Кайя, что ждала его на берегу реки с целым выводком Детей — может, пять, может, шесть, а может, целая дюжина притихших в чреве малюток с плотно сжатыми ротиками, готовых выйти на свет, когда им даруют жизнь! Он впился ногтями в ее бедра, покрытые чешуей, и она стала отчаянно вырываться, угрем извиваясь в его руках.
И тогда наш герой ожесточенно вонзил в нее свой меч. Смерть испустила пронзительный крик; потом Жана-Малыша плавно подхватила и сразу мягко опустила упругая волна, странная тишина воцарилась над миром, и перед Жаном-Малышом вновь возник силуэт старого Эсеба, сидящего рядом с нарисованной мелом лодкой…
Его вновь подняла и опустила упругая волна. Все вокруг было залито сиянием, которое слепило глаза. Лицо Эсеба стояло над ним черным солнцем. Никогда еще Жан-Малыш не видел такого неизъяснимо прекрасного, таинственно-первозданного лица, каждая черточка которого рождалась, вырисовывалась прямо на его глазах. Будто из бездонной глубины, до него доносились какие-то звуки. Когда волна отхлынула, он увидел, что звуки лились с непрестанно вздрагивавших губ Эсеба, который умоляющим голосом повторял:
О дух земли
Великий всемогущий дух…
4
Всякий раз, когда Жан-Малыш поднимал веки, он оказывался как бы внутри огромного пузыря, в котором отражался увеличенный лик старого Эсеба. Огромная рука тянулась к его рту, пузырь лопался, и тогда на язык его лилась тонкая струйка воды, а иногда он получал и немного пищи на кончике пальца — так новорожденному дают попробовать молоко. Немало дней провел он в этом пузыре, между жизнью и смертью, будто сомневаясь, к какому берегу пристать. Потом ему полегчало, и Эсеб стал наведываться в обличье ворона в богатые кварталы, откуда приносил разную вкусную снедь, доброе густое вино для того, кто возвращался к жизни, и вино пожиже для своей глотки. Как-то вечером колдун подивился тому, что шапка седых волос Жана-Малыша не исчезла вместе с крыльями: ведь, по его мнению, под старческой оболочкой должна крыться юная плоть, и он никак не мог окончательно решить, кто перед ним находится — мальчик или седой старик, и он спрашивал себя: неужто и вправду Жан-Малыш прожил там, откуда он пришел, долгую, полновесную человеческую жизнь?
— Да, я прожил целую человеческую жизнь, именно так, — сказал Жан-Малыш.
— И ты в этом уверен?
— Еще как! — улыбнулся Жан-Малыш.
— Экая досада! — бросил колдун, озабоченно тряхнув головой.
— Но почему? Разве, поседев, я перестал быть Жалом-Малышом?
— Кто ты такой, одному тебе известно, но не тебя, нет, не тебя возвестил нам Вадемба. Теперь я могу сказать: за несколько дней до смерти старик предрек, что однажды именно ребенок вновь зажжет солнце. Мы посмеялись над этим странным пророчеством, не понимая, как это мальчишка сможет вернуть великое светило, если уж тому суждено однажды погаснуть; такое скорее мужчине под силу, и то далеко не всякому; и тогда он пристально посмотрел нам в глаза и сказал: «Мартышки вы мои, вы думаете, коли вы способны состроить две-три гримасы, то уже все постигли? Лишь одно в нашем мире может превзойти мудрость мудрейших из мужей — наивность ребенка…»