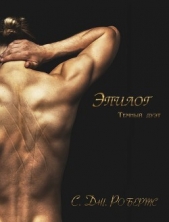Изгнание из ада
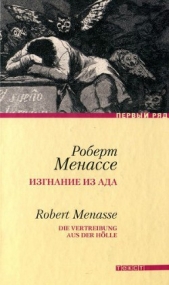
Изгнание из ада читать книгу онлайн
На вечере встречи, посвященном 25-летию окончания школы, собираются бывшие одноклассники и учителя. В зале царит приподнятое настроение, пока герой книги, Виктор, не начинает рассказывать собравшимся о нацистском прошлом педагогов. Разгорается скандал, с этого начинается захватывающее путешествие в глубь истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Воспитанник Мануэл!
— Да?
— Ты был учеником, который по праву возбуждал самые лестные надежды. Самые лестные. Не забывай на жизненном своем пути, что мы старались привить тебе!
— Я не забуду, отче!
— Благословляю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
— Аминь!
Мане сел в карету. Солнце садилось, когда он прибыл в Лиссабон. Мане был готов к жизни в смерти, когда снова увидел женщину и мужчину, своих родителей. Они располагали тремя неделями. Тремя неделями для отъезда в новую жизнь.
Только сейчас Виктор разглядел, что Хильдегунда молилась. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Опустив голову, небрежно сплетя руки, она стояла возле дерева в загадочной молитве. Потом подняла голову и попросила у Виктора глоток вина. Виктор подал ей бутылку. Хильдегунда на миг подняла ее вверх, словно чокаясь с деревом…
— Это кровь, какую мы, зеленые, проливаем за вас, за деревья… — Виктор.
Хильдегунда поднесла бутылку к губам и поперхнулась.
— К чему такая ребячливость! Здесь, под этим деревом, мы похоронили Манди.
— Насчет Манди я понял, но — похоронили? Не понял.
— Да, Манди. Нашего кота. Он умер, и мы похоронили его вот здесь. Два года назад. Как поступают с мертвым животным, бок о бок с которым прожито много лет? Я имею в виду…
— Ты много лет жила бок о бок с мертвым животным?
— Знаешь, в самом деле удивительно, что ты даже в пьяном виде способен придираться к языковым неточностям. Но с тобой всегда обстоит не так, как кажется: ты не придирчив, а просто циничен. Бессмысленно циничен.
— Извини. Что было с этим Манди?
— Да, что я хотела сказать? Он умер. Но нельзя же просто выбросить в мусорное ведро животное, которое столько лет жило вместе с тобой? Вот мы и устроили похороны. Да, я знаю, есть служба утилизации животных, можно туда обратиться и… звучит-то как: утилизация животных! В общем, мы положили его в гроб и…
— В гроб?
— Да, в гроб. Мой старший сын умеет работать руками, он сколотил и склеил из обрезков досок гробик. Конечно, можно бы обойтись обувной коробкой, но гробик все-таки лучше!
— Конечно!
— Потом мы поехали на Иезуитский луг, машину оставили на углу Виттельсбахштрассе и Рустеншахералле, чтобы еще немного пройти пешком, для торжественности, как бы траурная процессия. Младшему позволили нести гробик. У меня в рюкзаке были лопатки, которыми дети раньше играли в песочнице, потом я распределила эти лопатки, вот здесь, под этим деревом, и тут действовать пришлось очень быстро. Это же незаконно, в общественном парке нельзя просто так хоронить кошек…
— Я и не знал!
— Ну да. Дети вырыли игрушечными лопатками яму, опустили в нее гробик, засыпали по-быстрому, примяли лопатками, притоптали, постояли немного, дети поиграли на флейте, а я думала о Манди, сколько всего мы с ним пережили вместе, три переезда, три новые квартиры, к которым ему, да и всем нам пришлось привыкать, роман с одним человеком, у которого аллергия на кошек, потом мой муж, потом дети, и представь себе: каждый из пятерых начал свою активную жизнь с того, что дергал кота за хвост. Когда он умер, дети сперва даже не поняли. Думали, ладно, умер он, но сейчас же снова оживет, они тогда ушли спать и были уверены, что на другой день Манди опять оживет, так сказать воскреснет. Ведь кот для них был всегда, как я или мой муж, они просто представить себе не могли, что вдруг… н-да, их жизнь начиналась с Манди, и через него они узнали, что такое смерть.
— От чего он умер? От старости?
— Нет. Мы ждали именно этого. Думали, скоро он умрет от старости. Нет, он упал из окна. С пятого этажа. И умер мгновенно.
— Самоубийство?
— Виктор!
— Я хотел сказать, говорят, что кошки, падая или прыгая из окна, всегда приземляются на лапы и остаются целы-невредимы, что у них девять жизней, вот я и подумал, что кошка, собственно, не умирает, когда падает из окна на улицу… кроме как…
— Ты говоришь — кошка. Манди был кот. Причем самый неуклюжий, какого только можно себе представить. Ужасно неловкий. Он за всю жизнь ни разу на лапы не приземлился. К тому же глупый. Вечно что-нибудь опрокинет, откуда-нибудь свалится. Он тогда увидал голубя на подоконнике и прыгнул… в его-то годы. На подоконнике. Я как раз стояла поблизости. И все видела. Так глупо. Прыгнул. В ничто. Из-за голубя. Я бросилась к окну, посмотрела вниз. Успела увидеть, как он падает. Знаешь, что было странно? На лету он словно вдвое увеличился в размерах. Весь растопырился, мех распушил, дыбом поставил, падая в смерть, он был совсем другой, летучий лев, или что-то вроде того, и я подумала… нет, это не важно!
— Да ладно, говори!
— Я подумала: это уже не домашний зверек, это прыжок в иную жизнь, как бы это сказать, преображение, что ли… в таких ситуациях о точности слов не задумываешься! А потом — звук, банальный, глухой, он упал и лежал там мертвый, маленький, а голубь спикировал вниз, неловко так, а после улетел, а я побежала вниз и подобрала Манди…
— И что?
— Вот и подумала, раз уж мы все равно катаемся, надо его навестить! Все, едем дальше, пока я не откопала его, не выскребла ногтями…
— Один ноготь ты уже сломала…
— Идем, такси ждет!
Все разом, вместе — невозможно! Слишком бросалось бы в глаза.
Самое позднее через два дня пути они бы вызвали у каждого, кто их видел, подозрения — чужаки, повод к недоверию, вопросам, доносам, преследованию. Кто они? Почему здесь проезжали? Куда направлялись? Может, за них обещано вознаграждение? Мужчина в одиночку, вероятно, свободный, в поисках работы, одинокая женщина может оказаться вдовой, которая едет в гости к дальним родственникам или хочет остаться под их защитой, но мужчина и женщина с двумя детьми? Это семья, а семьи живут на одном месте, не скитаются по округе — если только они не беглецы. «Новообращенные», тайные евреи, стремящиеся покинуть страну. В плащи у них зашиты деньги, а вот истинной веры нету. Лица обожжены тем же иберийским солнцем, но кровь вовсе не та же, не добрая старая кровь иберийских христиан. Убейте их! Выдайте их!
Раздельно, поодиночке — тоже невозможно! Мане слишком мал. Отец слишком хвор. Так сказала мать. Мать тоже слишком хворая и нуждается в помощи. Так сказал отец. Эсфирь — да, она смогла бы управиться в одиночку.
— Я смогу одна, сеньор! — И Эсфирь собралась в путь.
Мане смотрел на нее, на сестру, которой не знал; он не узнавал ее, ведь за те три года, что он провел в иезуитской школе, из нее сделали в монастыре Носса-Сеньора-даш-Лагримаш сестру-монахиню, женщину без пола, человека без возраста, одухотворенное существо с темным взором из-под покрывала — в дороге любой назовет ее сестрой, почтительно, с готовностью помочь. Как сестра-монахиня Эсфирь была прекрасно замаскирована. Она поцеловала Мане, улыбнулась, совсем не как монашка.
— Я знаю, что ты думаешь, братик, — сказала она, гордая молодая женщина, — и ты прав! Нам ведома тайна воскресения, и мы вместе его отпразднуем! — В новой жизни, на свободе… Этого она не сказала. Ведь и так ясно.
«Пафос, — успела она сказать Мане еще раньше, вскоре после того, как семья воссоединилась в Лиссабоне, — пафос позволен, когда имеется в виду противоположное!» Как болтлив, как плаксив запуганный мальчик. Сестра преподала ему урок, стертый тремя годами в иезуитской школе. Он был отброшен назад, к нулю и к начаткам латыни. «Пафос — чувство бесчувственных, священный экстаз презирающих жизнь», — сказала она, когда Мане со слезами клялся ей в любви, которой не испытывал, ведь эта женщина была такой чужой, что он не находил любви, а любовь должна была существовать, ее надо было призвать, мобилизовать, и не только оттого, что они одной плоти и крови, а из-за общего переживания тогда, на кладбище, накануне разлуки, в конце прошлой жизни. «Перестань, — сказала она. — Какие такие силы небесные? С какой стати ты говоришь так напыщенно? Слушай, ты достаточно большой, чтобы это понимать, и даже если недостаточно большой, то все равно должен понять: мы не христиане! Христиане, — сказала она, — воспринимают все согласно букве, вот в чем с ними сложность. Если они читают, что люди, не верующие во Христа, суть как засохшие ветви, которые бросают в огонь, то сжигают людей как засохшие ветви. Коли все воспринимаешь буквально, даже если это ведет к подобным последствиям, то надо быть до крайности бесчувственным. Стало быть, им требуются другие чувства. Заменитель. Это и есть пафос. Христианское чувство. Так сказать, прекрасное звездное небо над миром буквального чувства. Без чутья и сочувствия к человеческому. Верить в Бога, в красоту Творения, вообще в творческое, в себя как человека и при этом сжигать людей, истреблять, глубоко чувствовать и при этом не иметь сострадания — на такое способен лишь тот, кто верит всего-навсего в букву и обучен следовать оной. Люби! Sim, Senhor! [34]Ненавидь! Sim, Senhor!Здесь написано вот так, а здесь — вот этак! Ответ всегда должен быть: да! Глупо это. Никто не имеет права повиноваться. Если дословное убийственно. Только эти люди говорят „сила небесная“, когда рассуждают о любви, ибо тогда могут на земле продолжать убийство. Вы проходили в школе „Божественные чувства“?»