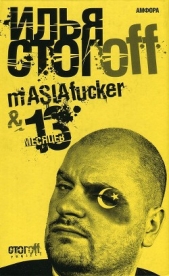Имя твое

Имя твое читать книгу онлайн
Действие романа начинается в послевоенное время и заканчивается в 70-е годы. В центре романа судьба Захара Дерюгина и его семьи. Писатель поднимает вопросы, с которыми столкнулось советское общество: человек и наука, человек и природа, человек и космос.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Кричал, в суд вроде дело передаст, все, говорит, село такое, бандитское, никто, говорит, работать не хочет, одно ворье!
– Всех под одну гребенку гребет, – изрек Митька философски. – Дождется он от народа, зануда…
Дальше до самого выхода к старым березам за околицей, переливавшимся под легким ветром молодой, струящейся зеленью, шли молча.
– Что ж, чем бабы-то виноваты? – сказал Егор, продолжая оборвавшийся разговор и явно повторяя слова матери; Митька ласково-снисходительно усмехнулся его рассудительности. – Хотя бы эта Стешка Бобкова или там еще кто… Ни налогов заплатить нечем, ни юбки купить. Вот и промышляй, хоть и самогонкой… Мужиков-то почти ни у кого не осталось.
– А ты им, бабам, не очень-то верь, – внезапно обозлился Митька, вспомнив недавний разговор с женой и бабкой Илютой. – Ты вот их знаешь по-настоящему, баб-то, а?
– Как это по-настоящему – отчаянно краснея, спросил Егор.
– Поди, не спал еще ни с одной?
– Не-ет, – мотнул Егор головой, затем, пересиливая смущение, весело глянул на Митьку. – Меня недавно звала одна… Да я боюсь, не пошел, старая…
Митька засмеялся, искоса глянул на сопевшего, вконец смутившегося Егора.
– Надо было пойти… Зря, – посетовал он. – Старая – это хорошо, она тебя сразу в борозду впряжет. Потом – какой у тебя счет на старость, не бабка же Чертычиха, небось Зинка Полетаева, эта может. Чего ты горишь-то? Или не угадал? Укажешь по-дружески, а? Не хочешь, не говори, ладно.
– Да ей уже двадцать пять. – Егор недоуменно поднял глаза на Митьку. – Чего хохочешь-то?
– Так… в самые дикие года ты входишь. – Митька вытер ладонью набежавшие слезы. – Ясно, все равно охомутают, но ты им до конца не верь. Баба, она сердцем жесточе мужика, она тебе все одно своего добьется, хоть не мытьем, так катаньем. Где она тебе криком не выкричит своего, так она подлой своей бабьей лаской сердце тебе ослабит…
Митька любил крепкую телом, жадную и щедрую на ласку Анюту, но иногда его начинали одолевать сомнения. Анюта по примеру других густищинских баб пристрастилась гнать и продавать самогон, и Митька уже несколько раз сшибался с нею по этому поводу. Отговариваясь шуточками, Анюта в серьезный разговор не вступала, непременно подносила ему за ужином стаканчик-другой, от чего Митька отказываться не имел никакого желания; одним словом, вся его воспитательная работа кончилась ничем, хитрая баба умела обойти его со всех сторон. Но уже на другой день, открывая глаза, Митька казнился своим безволием, разумеется, не потому, что не выдержал и опять выпил. Упрямая баба во что бы то ни стало хотела взять над ним верх, подчинить себе, а уж с этим Митька никак не думал мириться; раза два или три он приступом пытался навести порядок в доме и всякий раз отступал перед новым ловким маневром Анюты. В ее бабьих доводах был свой резон: благодаря ее стараниям как-никак и коровенка завелась, и в доме не так уж голо, как у соседей, у тех же Емельяновых или у Стешки Бобок, но это не очень радовало Митьку, тем более что Анюта становилась все прижимистее и даже по великой нужде никому в долг не верила. Как-то, снова заскочив домой на короткую побывку, чтобы помыться, побыть с женой, отоспаться, Митька совсем неожиданно стал свидетелем тягостной сцены, когда Лукерья Поливанова пришла просить у Анюты фунтов десять муки, униженно кланялась и божилась, что полсела впустую обошла и ноги уже у нее не ходят, осталась одна, горемычная, на старости лет.
– Откуда у нас-то, тетка Лукерья? – услышал Митька из сеней, где он, раздевшись до пояса, отмывал после работы копоть и масло, притворно-горестный голос Анюты. – Тут сама в каждой крохе выгадываешь… Ох, тетка Лукерья, вон мужик пришел с работы, старой картошки только и поставишь на стол. Какая уж теперь мука…
До Митьки донесся подавленный вздох Лукерьи.
– Ох, господи, господи, что ж это за жизнь пошла? Bсе там остались, на этой войне, а тут хоть и живая, а что толку? Травой не наешься, ох, как хлебушка захотелось… думаю, схожу хоть к Волковым, тракторист в дому. Неужто у них горсти муки не найдется? Господи, подавиться захочешь, и то нечем.
Отшвырнув в угол полотенце, с треском натягивая на себя рубаху, Митька рванул дверь так, что, казалось, застонала и шевельнулась вся изба; он был красен от стыда и гнева и, не глядя на Анюту, шагнул к Лукерье.
– Здравствуй, тетка Лукерья, – сумрачно поздоровался он. – Ты с собой посудину-то захватила?
– Чего? Чего, сынок? – не поняла Лукерья, переводя взгляд с Анюты на Митьку, по голой широченной груди которого в белевших рвано шрамах еще стекали капли воды.
– Мешок, говорю, или сумку какую захватила? – рявкнул Митька, угрожающе сдвинув брови на порывавшуюся что-то сказать Анюту.
– Есть, есть, Мить, – заторопилась Лукерья и тотчас из кармана старого своего мужского пиджака извлекла сумочку. Митька выхватил сумочку из ее рук, метнулся в сени, в кладовку, и скоро Лукерья уже уходила, сама еще не веря своей удаче, с целой, фунтов в десять, сумкой муки, а Митька как ни в чем не бывало отряхнул руки, застегнул ворот рубахи, поярче вывернул потрескивающий от солярки фитиль в семилинейной лампе над столом.
– Давай ужинать, – миролюбиво сказал он Анюте, метавшейся по избе со злым, вскипевшим и оттого особенно красивым лицом. – Где бабка?
Анюта ничего не ответила, грохнула на стол глиняный кувшин с кислым молоком, достала откуда-то из-под загнетки холодную, посиневшую картошку тоже в глиняной миске.
– Чего бельмами-то ворочаешь? – не выдержала наконец она тяжести молчания. – Никто тебя не боится! Жри! Больше тебе ничего не будет, ты своих заработков вшивых еще не получал! Баба день и ночь не спит, на него, паразита, горбит, а он последнее, хлеб вон, раздает кому попало…
В общем-то Митька был мирный и добродушный человек, но тут слишком долго копилось его несогласие с Анютой, а ее неестественно высокий злой голос, ранее незнакомый, вызвал в нем волну дикого, какого-то радостно-облегчающего гнева. Одним взмахом руки он смел со стола все, что на нем стояло.
– А ну, тащи самогон, Анюта! Сала порежь, живо мне!
– Огня тебе зеленого, дурак! – крикнула Анюта в бессильной ярости, – Нет чтобы хоть кроху в дом, только мотать да про… и горазд! Недалеко, гляди, ускакал от своей полоумной бабки Илюты! Вот она, порода, сразу и видна – как была голь перекатная, так и подохнете, срам прикрыть нечем! Тут тебе не партизанский бардак…
Не успела Анюта охнуть, как Митька, оттолкнув тяжелый дубовый стол, оказался рядом с нею; не сдержи он вовремя руку, вековать бы Анюте с переломанной шеей, но в самый последний момент, увидев белые от страха глаза жены, он смутно пожалел ее и только процедил сквозь стиснутые зубы:
– Дура же из тебя вымахала… Самая настоящая кулачка… тьфу!
Пожалуй, Анюту окончательно сразило это брезгливое «тьфу», и она, лишившись голоса, остекленело смотрела, как муж, обрывая вешалку, сдернул с гвоздя пиджак и, не говоря больше ни слова, в ярости бухнул ногой в дверь и пропал; из темноты сеней долго доносилось недовольное бормотание потревоженных кур. Анюта, напряженно прислушиваясь, обмерла от неожиданно мелькнувшей мысли, но не таков был у нее характер, чтобы сразу броситься за мужем вслед. Напротив, оставшись одна, она окончательно разбушевалась и, излив наконец свой гнев на ни в чем не повинную бабку Илюту, вернувшуюся домой от старух, которых она ходила проведать, на чем свет, кляня Митьку и всю его голоштанную родню, Анюта решительно заявила оторопевшей от страха безответной Илюте, что больше ни минуты не останетя в этом доме и уходит к отцу с матерью, где ей с дочкой всегда отыщется покойное место. Бабка Илюта робко попыталась вразумить закусившую удила бабу, да не тут то было, Анюта так страшно закричала на старуху, что та испуганна села на табурет, а с потолка поднялись сонные мухи. Освободившись от душившего ее гнева, Анюта, не раздумывая долго, связав кое-какие свои пожитки в узел и схватив закутанную как попало, испуганно таращившуюся Настенку, ушла, и когда Митька вернулся домой ближе к полуночи в самом расчудесном настроении и явно навеселе, вконец потерявшаяся от таких душераздирающих событий бабка Илюта, заикаясь, пересказала ему слова Анюты.