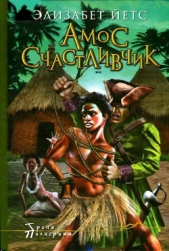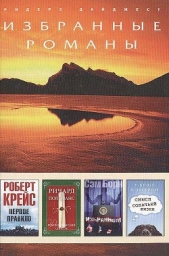Элизабет Костелло

Элизабет Костелло читать книгу онлайн
Впервые переведенный на русский язык (написан в 2002 г.) роман Нобелевского лауреата Джозефа Максвелла Кутзее — это, скорее, «манифест взаимоотношений». В центре этого «манифеста» — история жизни вымышленной австралийской писательницы Элизабет Костелло. Ей — 66 лет, ее книги признаны во всем мире, она выступает с лекциями, ведет дискуссии в академических кругах, рецензирует труды своих коллег. У нее есть слава и успех. В ее произведениях присутствуют секс, ревность, ярость, страсть, описания ее граничат с непристойностью, несут в себе смятение и постоянные сомнения. Но, как это всегда бывает, только наедине с собой, Элизабет Костелло может быть абсолютно откровенной. Именно в такие моменты, обозревая свою жизнь, писательница может оценить степень искренности своей жизненной и литературной позиции, становясь судьей сама себе.
Возвышенная, острая и, как всегда, захватывающая проза Кутзее посвящена попытке ответить на самые простые вопросы: что такое человек, что ему в этом мире нужно. Но ответы даются автору отнюдь не легко. Психологические лабиринты, выстраиваемые Кутзее, требуют от нас пройтись по ним множество раз, чтобы наконец-то найти выход…
Новый роман Нобелевского лауреата (2003) Дж. Кутзее на первый взгляд представляет нам историю жизни женщины — матери, сестры, любовницы, писательницы; на самом же деле это роман-раздумье о сложнейших моментах человеческого бытия.
В дни расцвета её молодости она, Элизабет Костелло, могла бы, подобно Психее, послужить причиной посещения земли крылатым Амуром. Не потому, что жаждала прикосновения бога, жаждала до боли; потому что в своем страстном устремлении она могла бы привить богу вкус к тому, чего ему так не хватало дома, на Олимпе. Но теперь, похоже, все изменилось: «Разведенная белая женщина, рост 5 футов 8 дюймов, за шестьдесят, бегущая к смерти в том же темпе, что и смерть ей навстречу, ищет бессмертного с целью, которую не описать никакими словами…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы будете говорить за убийц?
— Буду.
— Вы не станете делать различия между убийцей и его жертвой? Значит, вот что означает быть секретарем: записывать все, что вам рассказали? Иметь обанкротившуюся совесть?
Ее загнали в угол, она это понимает. Но разве это важно? Главное, что этот бессмысленный спор, похоже, приближается к концу.
— Вы думаете, виновные не испытывают страданий? — спрашивает она. — Вы думаете, они не взывают к нам из пламени, в котором горят? Какую же нужно иметь жестокую душу, чтобы не обращать внимания на стенания, вызванные нравственными муками!
— А эти голоса, которые призывают вас, — произносит толстячок, — вас не интересует, откуда они исходят?
— Нет. Во всяком случае до тех пор, пока они говорят правду.
— И вы, советующаяся только со своим сердцем, беретесь судить, правда это или нет?
Она нетерпеливо кивает. Это похоже на допрос Жанны д'Арк: „Как можешь ты знать, откуда исходят эти голоса?“ Она не может вынести литературщины происходящего. Они что, не в состоянии: придумать что-нибудь новенькое?
Наступает молчание.
— Продолжайте, — подбадривает ее главный.
— Это всё, — произносит она. — Вы спросили, я ответила.
— Вы убеждены, что голоса исходят от Бога? Вы верите в Бога?
Верит ли она в Бога? Вопрос, от которого она предпочитает держаться подальше. Зачем, даже если допустить, что Бог существует — что бы это „существует“ ни означало, — зачем тревожить его глубокий царственный сон доносящимися снизу криками „верю — не верю“, словно на плебисците?
— Это слишком личное, — произносит она. — Мне больше нечего сказать.
— Кроме нас, здесь никого нет. Вы смело можете открыть свое сердце.
— Вы меня не поняли. Я хочу сказать, что Бог не одобрил бы такое — высказать столь сокровенное. Я предпочитаю оставить Бога в покое. Надеюсь, и Он оставит в покое меня.
Молчание. У нее болит голова. Слишком много неожиданных абстракций, думает она, природа предупреждает.
Председатель окидывает всех взглядом.
— Есть еще вопросы? — спрашивает он.
Вопросов нет.
Он поворачивается к ней.
— Вам сообщат наше решение. В свое время. По установленным каналам.
Она снова в общежитии, лежит на своей койке. Она предпочла бы сидеть, но у койки высокие борта, как у подноса, так что сесть нельзя.
Она ненавидит этот душный барак, которому суждено было стать ее домом. Она ненавидит этот запах, ее тошнит от прикосновения к засаленному матрасу. Часы, которые она проводит здесь, кажутся очень долгими, особенно в середине дня. Сколько времени прошло с тех пор, как она приехала в этот город? Она потеряла счет времени. Вероятно, недели, а может, месяцы.
На площади звучит музыка: это оркестр, который выходит играть во второй половине дня, когда спадает жара. На нарядной эстраде музыканты в белых мундирах, щедро украшенных золотыми шнурами, с треуголками на головах играют марши, вальсы Штрауса, популярные песни. У дирижера аккуратные тоненькие усики провинциального волокиты; после каждой мелодии он улыбается и кланяется в ответ на аплодисменты, а в это время толстяк, играющий на трубе, снимает шляпу и вытирает лоб бордовым носовым платком.
Все то же самое, думает она, могло происходить в каком-нибудь итальянском или австро-венгерском пограничном городке в 1912 году. Как будто из какой-то книги, и барак тоже, с его соломенными матрасами и лампочкой в сорок ватт, как будто тоже взят из книги, и вся история с залом суда. Может, все это смонтировано ради нее, потому что она писательница? Может, кто-то решил, что именно так должен выглядеть ад для писателя, или, по крайней мере, чистилище: чистилище, составленное из одних клише? Тогда ей полагалось бы быть на площади, а не здесь, на этой койке. Она сидела бы за одним из стоящих в тени столиков в окружении шепчущихся влюбленных, перед ней стоял бы стакан чего-нибудь прохладительного, и она ожидала бы первого дуновения ветерка на своей щеке. Банальность из банальностей, несомненно, но какое это теперь имеет значение? Какое это имеет значение, если счастье молодых пар на площади — притворное счастье; скука, испытываемая стражем, — притворная скука; фальшивые ноты, которые берет корнетист в верхнем регистре, — притворно-фальшивые ноты? Такова жизнь с тех пор, как она приехала сюда: тщательно разработанный набор банальностей, включая ветхий автобус с дребезжащим мотором и чемоданы, привязанные на крыше, да и сами ворота тоже, с огромными торчащими гвоздями. Почему не выйти и не сыграть уготованную ей роль, роль путешественницы, низвергнутой в город, который ей не суждено покинуть?
И даже когда она прячется в бараке, кто может сказать, что она не играет предписанную ей роль? Почему она думает, что только ей под силу удержаться от участия в спектакле? И в чем вообще заключается настоящее упрямство, настоящая смелость, как не в том, чтобы принять участие в спектакле, все равно в каком? Пусть оркестр играет танцевальную мелодию, пусть пары кланяются друг другу и исполняют разные па, и пусть там, среди танцующих, будет она, Элизабет Костелло, старая комедиантка, в своем не подходящем к случаю платье, кружащаяся напряженно, но не совсем уж неуклюже. И если быть профессионалом, играть свою роль тоже клише, то пусть оно таковым и остается. Какое она имеет право вздрагивать при мысли о клише, если все вокруг, похоже, пользуются ими, живут ими?
То же и с убеждениями. „Я верю в неукротимый дух человека“ — вот что ей следовало сказать судьям. Так она смогла бы обойти их, заслужив аплодисменты. „Я верю, что человечество едино“. Кажется, все верят в это. Даже она верит в это, время от времени, когда у нее соответствующее настроение. Почему она не может хотя бы раз притвориться?
В дни ее молодости, в мире, ныне утерянном, ушедшем в небытие, можно было найти людей, которые все еще верили в искусство или, по крайней мере, в художника, которые пытались следовать по пути великих мастеров. Неважно, что Бог потерпел неудачу, и социализм тоже — всё еще оставались Достоевский и Рильке, чтобы вести вперед, и Ван Гог с перевязанным ухом — воплощение страстности. Не перенесла ли она эту свою ребяческую веру в художника и его правду в свою последующую жизнь?
Ее первым побуждением было сказать — нет. В ее книгах никак не выказывает себя вера в искусство. Теперь, когда всё позади и покончено с ее писательским трудом, которому она отдала жизнь, она может бросить взгляд назад, достаточно холодный взгляд, как она полагает, настолько холодный, что он не обманет. Ее книги ничему не учат, ничего не проповедуют; они лишь рассказывают, так ясно, как только могут, как жили люди в определенное время и в определенном месте. Если быть поскромнее, они рассказывают, как жил один человек, один из миллиардов, человек, которого она сама для себя называет она, а другие называют Элизабет Костелло. Если она верит в свои книги больше, чем в этого человека, то эта уверенность сродни тому, как столяр верит в крепкий стол, а бондарь — в бочку для портера. Ее книги, полагает она, слеплены лучше, чем она сама.
По тому как меняется воздух, и это чувствуется даже в затхлой атмосфере общежития, она понимает, что солнце садится. Она пролежала всю вторую половину дня. Она не пошла танцевать, не стала работать над своим заявлением, только размышляла, только напрасно теряла время.
В тесной умывалке она пытается освежиться, насколько это возможно. Вернувшись, она видит в комнате новоприбывшую женщину, моложе ее, которая лежит с закрытыми глазами, провалившись в койку. Она заметила эту женщину еще на площади, в компании мужчины в белой соломенной шляпе. Она приняла ее за местную. Очевидно, это не так. Очевидно, это тоже просительница.
Уже не первый раз перед ней встает вопрос: „Что мы представляем собой, мы, просители, ожидающие решения судей, — и новые, и те, кого я называю местными, но на самом деле просто находящиеся здесь достаточно давно для того, чтобы слиться с обстановкой, стать частью пейзажа?“