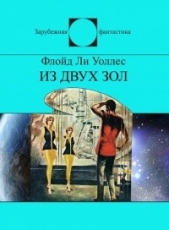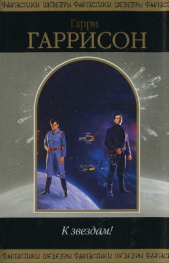Улица
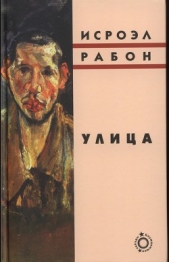
Улица читать книгу онлайн
Роман «Улица» — самое значительное произведение яркого и необычного еврейского писателя Исроэла Рабона (1900–1941). Главный герой книги, его скитания и одиночество символизируют «потерянное поколение». Для усиления метафоричности романа писатель экспериментирует, смешивая жанры и стили — низкий и высокий: так из характеров рождаются образы. Завершает издание статья литературоведа Хоне Шмерука о творчестве Исроэла Рабона.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По всей видимости, разговор с атлетом Язоном тоже происходит не на идише, а на польском, поскольку в начале этого разговора рассказчик и Язон с удивлением обнаруживают, что они оба евреи. Соответственно, в момент знакомства они общаются на каком-то другом языке. Также понятно, что члены разноязыкой цирковой труппы не говорят между собой на идише, да и по-польски тоже. И, тем не менее, даже если принять за данность, что в других сомнительных случаях «в оригинале» разговор происходит на идише, все равно польский остается главным языком той реальности, которая описана в «Улице» [108].
Языковая ситуация, складывающаяся на страницах книги Рабона, дополнительно высвечивает природу персонажей, в том числе рассказчика, который, при том, что он «пишет» книгу на идише, принадлежит к тонкой прослойке польских евреев, для которых польский стал основным языком. Автор создает у читателя четкое ощущение, что языковая проблема расширяется до экзистенциональной и становится дополнительным и труднопреодолимым компонентом общей отчужденности. Не вдаваясь в подробное описание поэта Фогельнеста и его стихов, которые он пишет по-польски, Рабон внятно и недвусмысленно обозначает его статус польского поэта еврейского происхождения, когда приводит Фогельнеста ночью в пустой цирк и заставляет там читать свои стихи. В этой ситуации деградация «высокой» польской поэзии в устах еврея явственно достигает гротескных пропорций [109].
Языковая ситуация, созданная в «Улице», лишний раз подчеркивает необычность этой книги, написанной на идише и посвященной экзистенциональным исканиям польскоязычных персонажей, как евреев, так и поляков. Как было сказано выше, для межвоенной еврейской прозы эта ситуация была далеко не стандартной и не общепринятой [110]. Более того, именно описанной языковой ситуацией, по причине чего «Улица», по сути, является «переводной» книгой, можно объяснить скупое использование рассказчиком еврейских идиом, равно как и общее впечатление бедности языка, которое эта книга производит на некоторых читателей.
При анализе романа «Улица» нельзя не упомянуть и еще некоторых второстепенных персонажей. Читатель не может не обратить внимание на то, что Рабон очень часто использует образы, аллюзии, сравнения, связанные со всевозможными животными. Ранее уже говорилось о том, что то же самое характерно и для его поэзии. Зачастую это идиоматические и даже устойчивые выражения из идиша, в определенном смысле они напоминают о мощной притчевой традиции в этом языке. Однако нет никакого сомнения в том, что Рабон использует этот прием с целью удивить читателя, хотя иногда легко отследить непосредственный источник того или иного выражения — например, это польская идиома, переведенная на идиш. Когда нам встречаются выражения вроде «маленький мальчик с узким личиком, острым подбородком и маленьким узким лбом, похожий на голодную церковную мышь» (2-я глава), возникает ощущение, что выделенные курсивом слова, которые достаточно странно звучат на идише, просто являются переводом стандартного польского выражения «Głodny jak mysz kościelna». Выражение встречается в главе, где действие происходит в подвале у сумасшедшего сапожника и разговор идет по-польски. Из этого можно заключить, что Рабон усматривает тесную связь между «оригинальным» языком событий и их передачей на идише [111].
Сравнения, в которых используются образы животных, носят в романе двухсторонний характер. Человек принимает облик животного и действует соответственно, и, напротив, животное обретает человеческие черты. Двухсторонний характер этого приема можно проиллюстрировать коротким отрывком, где прием представлен в обеих разновидностях (26-я глава):
Извозчики спали на козлах, лошади моргали от снега большими, влажными, грустными глазами. На углу мне встретились две уличные женщины, выставляющие напоказ бледные лица и подбитые глаза. Они разговаривали, кричали друг на друга, размахивали руками. Извозчик, проснувшись от их крика, весело заворчал, сделал снежок и метнул его в одну из женщин:
— Эх, пропащие!
Обе женщины повернулись к нему и принялись, не сходя с места, его бранить, размахивая руками, выкрикивая злые и замысловатые проклятия одно за другим, как собаки, которые боятся укусить, но, не сходя с места, не прекращают лаять.
В текстах Рабона, как правило, появляются кошки, собаки и лошади. Так обстоит дело не только в романе «Улица», но и в книге «Балут», и в его поэзии [112]. Эта особенность его творчества заслуживает более пристального и подробного исследования.
Склонность, порой доходящая до навязчивой идеи, сравнивать животных с человеком, порой по линии противопоставления, особенно ярко выражена в «Улице» в изображении лошадей. Взаимоотношения между человеком и лошадью основаны прежде всего на совместном преодолении невзгод. В этой связи следует подчеркнуть, что в мире, который создан в романе Рабона, нет чистокровных, надменных, ухоженных скакунов. В «Улице» описаны простые рабочие клячи, которые тянут тяжелые телеги, которых впрягают в извозчичьи пролетки. Владельцы таких лошадей стремились, разумеется, выжать из них как можно больше и при этом, как могли, экономили на корме. В 1930-е годы такие лошади были неотъемлемой частью любого польского городского пейзажа. Именно они являлись основным средством перемещения грузов и перевозки пассажиров. Однако, помимо них, Рабон упоминает и о тех лошадях, которые вместе с людьми участвовали в Первой мировой войне, которые тоже погибали в этой бойне.
Взаимоотношения человека и лошади, общность их тяжелых судеб явственно прослеживаются в целом ряде эпизодов романа. Несчастный поэт Фогельнест не может сдержать слез при виде загнанной клячи, которая умирает прямо посреди улицы. Глубина его чувств объясняется тем, что он проецирует эту ситуацию на себя, ибо Фогельнеста ждет схожая смерть (в конце 30-й главы).
Как уже было упомянуто, некоторое время рассказчик работает в цирке. Он носит афиши по шумным городским улицам, причем должен ходить в небезопасном месте — посреди мостовой. Но он приспосабливается к этой работе, и у него возникает взаимопонимание и даже «дружба» с лошадьми, с которыми он постоянно соприкасается (11-я глава):
Странно, но каждый, кто долго ходит по мостовой, начинает чувствовать себя по-свойски с лошадьми. Большие лошадиные глаза на любого смотрят тепло и дружелюбно, будто хотят сказать нечто, будто шлют немой привет. Моя постоянная сосредоточенность на том, чтобы меня кто-нибудь не задавил, пробудило во мне чутье полицейской собаки. Я носом чуял, когда за мной топала лошадь, я отличал запах автомобиля от запаха трамвая. Часто, неся двумя руками афишу с бенгальским тигром, я ловил косой взгляд лошади, шедшей в упряжке, взгляд, полный сочувствия и сострадания, ко мне, человеку…
Человек убежден, что лошадь, его товарищ по несчастью, не нанесет ему вреда. А вот в отношении более современных транспортных средств, которыми управляют люди, он не испытывает подобной уверенности. Очеловечивание лошади с грустными глазами в приведенном выше отрывке совершенно естественно для этой книги. Понятно, почему в городе лошадь ставят выше человека, самой заметной чертой которого является его апатия. Жалость, которую испытывает лошадь к несчастному человеку, падающему спьяну на мостовую, подчеркнута в этом контексте цитатой из стихотворения Бодлера (21-я глава) [113].
Страницей раньше рассказчик размышляет об одиночестве человека, о странном явлении: оказывается, можно проникнуться внезапной мимолетной любовью к неведомому прохожему на городской улице. Ассоциативная связь с описанной в цитате из Бодлера лошадиной сострадательностью совершенно очевидна, причем сравнение с лошадью сделано далеко не в пользу человека.