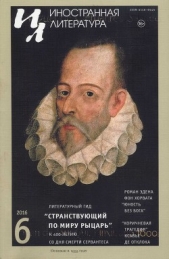Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Песнопение смерти было в моем сердце. Черные глыбы, полные голосов. Котловина, полная дегтя; ров, наполненный белейшей ртутью. Они не исчезали, когда я просыпался. Моя воля к усердной работе была велика. Изощренные формы и звучащий поток, кроваво-багряный, переплетались. ТЕМНОТА ГУСТА, НЕ ВИДНО СВЕТА, НИ ВПЕРЕД, НИ НАЗАД НЕЛЬЗЯ ЕМУ ВИДЕТЬ {116}.
По прошествии двух лет симфония была закончена. Я работал над ней почти непрерывно, день за днем. Молчание, превосходящее человеческие силы, трепетание моих нервов, странные шорохи по вечерам и ночью — все это тоже, незаметно для меня, просачивалось в нотные строчки, а потом из них улетучивалось.
Наверное, многочисленные тени мешают заметить благозвучность мелодии. Радостное аллегро окрашивает только первую часть. Позже все движения в темпе vivace {117} выражают лишь ощущения распада, отчаяния, ожесточенности, тревоги. Четвертая часть местами обретает блеск отшлифованных драгоценных камней; в ней вспыхивают символы многоликого канона; три большие секвенции состоят из отблесков и их отражений: из игры багряного, зеленого и темно-синего. Ночь последней части кажется не поддающейся просветлению. —
Еще год я был занят тем, что переписывал симфонию, улучшал ее и с большей тщательностью прорабатывал инструментовку. Мой издатель, после того как сам ознакомился с рукописью или поручил это кому-то другому, печатать такое отказался. Не то чтобы произведение совсем ему не понравилось — некоторые частности он даже хвалил; однако и замечаний у него набралось так много, что в своей совокупности они были равносильны отказу. Началась долгая борьба за то, чтобы симфонию все-таки напечатали. Мне казалось — хотя я вновь и вновь сомневался, — что эта симфония вполне выдерживает сравнение с лучшими моими работами. Она имеет особенности, которые выделяют ее из общего ряда, — по крайней мере, с точки зрения формальных признаков. Возможно, один из моих просчетов состоит в том, что для этой симфонии нельзя найти подходящего места в истории симфонической музыки. Она рассчитана на целый вечер: таково было изначально поставленное мне условие {118}. Она является по преимуществу оркестровым произведением: если пропеть отдельно все пояснительные, исполняемые хором куски, это займет не больше четверти часа… Но чем больше старался я оправдать свою работу, тем упорнее становилось сопротивление издателя. Тигесен больше не мог прийти мне на помощь. Он был одним из тех, что уже умерли.
После многомесячного изнурительного обмена письмами начала вырисовываться форма моего поражения. Я должен был внести пять тысяч крон как свой вклад в покрытие издательских расходов. Мне собирались возвращать эту сумму по частям, после того как симфония будет публично исполнена: тысячу крон в связи с премьерой и по пятьсот крон при каждом последующем премьерном исполнении на новом месте и новым оркестром. Отправление рукописи в типографию раз за разом откладывалось, хотя большую часть расходов предстояло оплатить мне. Переписчик нот работал медленно. Мне написали, что это старый человек, который обладает удивительным даром: делать сами нотные страницы доступными для эстетического восприятия, чтобы уже в партитуре оптически обнаруживалось высокое достоинство содержания. — Я начал работать над второй, маленькой симфонией. Может быть, меня подвигли к этому замечания издателя: что я взорвал рамки чистой музыки: что ожидал от одновременности элементов чего-то такого, что можно передать только путем их последовательного расположения {119}; что формы, которые, как я считал, плавно перетекают одна в другую, пребывая в архитектоническом покое, на самом деле друг в друга вгрызаются, словно разъяренные звери… В самом этом колоссе — первой симфонии — я ничего менять не хотел. Я его воздвиг. Пусть теперь другие попытаются его опрокинуть.
Льену я сообщил, что вскоре будет опубликована написанная мною большая симфония. Я охарактеризовал ее в ироническом тоне: мол, исполнять ее тяжело: я и не рассчитываю, что она когда-нибудь будет исполнена. (Хотя в глубине души, конечно, я все-таки надеялся.) Он поздравил меня, отмел прочь мои сомнения — как это может сделать только человек, не имеющий отношения к профессиональному сообществу музыкантов или вообще не разбирающийся в музыке. Тем не менее его слова пошли мне на пользу. Ведь у меня не было никого другого, кто мог бы меня утешить. Мне не хватало Тутайна. Если бы я не видел его иногда по ночам, во сне, моя душа вообще бы изнемогла, сделалась ни к чему не пригодной.
Илок между тем подросла. Насладилась совокуплением с жеребцом. Илок стала моей ближайшей подругой, неизменно ко мне прислушивалась. Илок тянула по проселочным дорогам коляску, в которой я сидел. Маленькую симфонию я назвал так: МОЯ ЖИЗНЬ С ИЛОК.
Почтовая открытка без конверта, от Кастора: «Я уже близко. Не вздумайте где-нибудь по дороге дожидаться меня. Я хочу быть для Вас Неизвестным, пока не окажусь у Ваших дверей». — Датская почтовая марка. Почтовый штемпель: Копенгаген-К.
Мое сердце заколотилось так быстро, порхающе, что через две-три минуты я почувствовал себя обессиленным и, почти утратив надежду, подавив в себе вспыхнувшую было радость, кое-как преодолел короткий путь от почтового ящика до дому. Я сказал себе, что он приедет очень скоро — сегодня, завтра или послезавтра. Но поскольку я не мог справиться с нахлынувшими на меня мыслями, каждый ответный всплеск моих ничтожных чувств оказывался настолько мощным, что лишь усиливал овладевшее мною изнеможение. Не хватало совсем немногого, чтобы я ударился в слезы. Я внезапно пожалел, что вообще затеял эту историю, теперь ввергающую меня в смятение. Но под конец мне подумалось: нужно предпринять какие-то меры, чтобы торжественно встретить гостя, которого я сам настоятельно просил приехать.
Я запряг Илок и поехал в город за покупками. Вино, ликер, кофе, чай, сливочное масло, деликатесы, жаркое, сливовый пудинг, мед, сыр, фрукты, табак. Приобретение всех этих вкусных и питательных продуктов мало-помалу привело меня в празднично-радостное настроение. Правда, неудержимо напрашивалась мысль, что последние красивые и обильные праздники для гурманов я устраивал вместе с Тутайном, что подлинная радость от вкушения пищи для меня всегда связывалась с его присутствием… Тем не менее близость Кастора уже оказывала на меня таинственное воздействие: такие воспоминания почему-то не окрашивались печалью. Наоборот, возникла фривольная фантазия: что Тутайн, пусть и находясь в ящике, все-таки разделит с нами этот праздник и услышит голос своего давнего товарища. — Зайдя потом в отель, я проштудировал план пароходного сообщения, но так и не смог сделать выводы относительно возможного времени прибытия Кастора. Я насладился пуншем, хорошей едой, крепким кофе. Я ощущал в себе — не зная наверняка, так ли это, — новый прилив сил, глубокое счастье неопределенного ожидания. Я оставался в городе до наступления сумерек.
Мой темный дом, когда я вошел, показался мне преображенным. Я больше не ощущал, что в комнатах меня встречает Пустота. В них присутствовало что-то от будущих событий. Голос, который я пока не могу слышать, но который уже обладает ртом, и вскоре я увижу, как этот рот движется… Радость во мне не уменьшилась даже тогда, когда мой взгляд случайно упал на гроб Тутайна. Я привел в порядок свой письменный стол, как будто это важно, и запер нотные листы, над которыми недавно работал, в выдвижном ящике. Наконец, после долгих бесцельных блужданий по трем комнатам, сел к письменному столу, чтобы сделать эту запись. Я все еще настолько возбужден, что мои мысли, как если бы они обратились в бегство, уклоняются от любой попытки их рассмотреть. Они формируются лишь наполовину и тотчас блекнут, вытесняются другими мыслями, которые тоже остаются незавершенными. Я пытаюсь представить себе облик Кастора, его лицо. У меня это больше не получается. Я забыл, как он выглядел. Во мне возрождается сразу вся команда «Лаис». Но эти мужчины не имеют лиц. Я вижу лишь движущиеся ноги в широких штанинах и над ними матросские блузы, из которых торчит шея и иногда проглядывает кусок покрытой татуировкой груди. Те немногие головы, которые я распознаю, носят имена: Вальдемар Штрунк, Георг Лауффер, Эллена, Пауль Клык, Тутайн; еще я вижу лицо полунегра. И — орла на спине Тутайна. Очертания женщины на его предплечье. «Юнион Джек» {120}, прикрывающий ребра старого парусного мастера. В левом ухе у старика тонкое золотое кольцо. — Вальдемар Штрунк, отец Эллены, который возненавидел море; бежал в сад, расположенный среди полей; и в те поздние годы однажды послал письмецо моей маме — такого, по ее словам, содержания: «Прославленному сыну — мое почтение; его матери — пожелание счастья; мне самому, отвергнутому тестю, — утешение в музыке»… Он с каждым годом все отчетливее понимал, сколь многого лишился. Его тоска по Эллене усиливалась. В моей музыке он надеялся найти призрак ее тела. Со временем он убедил себя, будто Эллена делилась со мной плотью и будто воспоминания об этой любви орошают мою музыку. Он сам однажды написал мне, что иногда совершает далекие поездки, чтобы послушать мои произведения. Дух его пришел в упадок. Он стал похож на шута.