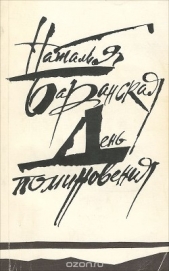День поминовения
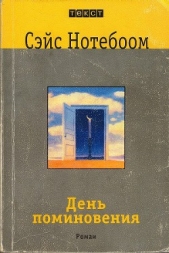
День поминовения читать книгу онлайн
Действие романа происходит в 90-х годах XX века в Берлине — столице государства, пережившего за минувшее столетие столько потрясений. Их отголоски так же явственно слышатся в современной жизни берлинцев, как и отголоски душевных драм главных героев книги — Артура Даане и Элик Оранье, — в их страстных и непростых взаимоотношениях. Философия и вера, история и память, любовь и одиночество — предмет повествования одного из самых знаменитых современных нидерландских писателей Сэйса Нотебоома. На русском языке издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
* * *
На Фалькплатц ветер воет и в той же, и в другой тональности. Он набрался силы, пролетая над Todess- treifen, полосой смерти, и теперь ревет еще громче и набрасывается на своего жалкого врага, этот лесок из плохо прижившихся саженцев, напоминание о доброй воле. Теперь ветер скорее свистит и шипит, Элик Оранье слышит в нем резкий шепот, стук в единственное окно в ее комнате, удары по подоконнику, она прислушивается к нему, как к оракулу, к неразборчивым хриплым голосам каких-то старух. Она сидит в позе лотоса в середине ограниченного пространства, стараясь сосредоточиться, но ничего не получается. Сознание ее поворачивается то в одну, то в другую сторону, словно флюгер, но потом неизменно возвращается к трем совершенно разным по своему характеру мыслям, которые она во что бы то ни стало должна додумать до конца. О правде относительно любовников и выкидышей ее королевы, о последней лекции про Гегеля и о человеке, прикоснувшемся к ее шраму, но так, что в прикосновении этом сокровенной близости было больше, чем потом в постели.
— От такого думанья мало проку, — произносит она вслух.
И это правда, в каждой из своих мыслей она чуть — чуть продвигается вперед, а потом тотчас перескакивает на другое, словно распускает свитер, связанный из разноцветной шерсти. И постоянно повторяет эти мысли одну за другой, как буддист свои молитвы. Ее шрам принадлежит ей и только ей, мгновение огня, боли, запах паленой кожи, мужчина, который гасит сигарету, вращательным движением вдавливает горящий кончик, наваливается на нее всем своим агрессивным весом, почти разрывает ее надвое, запах алкоголя из этого рта, бормочущего какие-то слова, ее собственный крик, мать, которая заходит в комнату нетвердыми шагами, цепляется обеими руками за дверь и смотрит на происходящее, — все это принадлежит только ей. Мне, мне одной. Говорить об этом невозможно ни с кем и никогда. Прочие моменты стираются и теряются, а этот остается. Он есть. В этот момент родился отказ. Он родился тогда и никуда не исчез. Отказ от чего? Просто отказ. А сегодня другой человек дотронулся до ее шрама, нежно провел пальцем по нему, словно это может исцелить. Нет. До этогоне дотронулся никто. Нежность — слово, которое нельзя употреблять. Как будто ему все известно. Но это невозможно.
И тут же, словно это вещи взаимосвязанные, мысль о другом. Королева, о которой Элик узнает все больше и больше, а значит, все меньше и меньше, потому что каждый новый факт рождает новые вопросы. Женщина из прошлого, как Элик называет ее про себя. Человек, с которым она связала несколько лет своей жизни и с которым у нее не должно быть ничего общего, с которым она ни при каких условиях не должна себя отождествлять, хотя прекрасно знает, что это уже произошло, вопреки запрету. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это почувствовалось в ее диссертации. Работа должна получиться сухой как позавчерашний хлеб, и тем не менее чем больше Элик читает, вдумываясь в эти противоречивые сведения и в эти белые пятна, тем больше ей хочется заполнить остающиеся пустоты своими эмоциями, словно не Уррака, а она сама борется за свое королевство, будто это ее саму побеждают и насилуют, а она обращается в бегство и потом наносит ответный удар, будто это она, Элик, вынуждена искать помощи у других мужчин; непростительные фантазии, точно сочиняешь роман, отвратительные выдумки, когда хочется подчинить правду своей воле и написать: «В этот миг Уррака подумала…», хотя нам никогда в жизни не узнать, что думала Уррака. Прочитав десять книг о придворной жизни тех дней, мы все равно ничего не знаем, ни как от тех людей воняло, ни как они разговаривали, ни как они друг с другом спали; что бы мы ни стали утверждать об их образе жизни, все будет носить чисто умозрительный характер. В романе можно изобразить средневековую королеву в постели, но каким был в те времена оргазм, таким же, как теперь, или не совсем? Насколько другими, чем мы, были те люди, и насколько похожими на нас? Солнце тогда радостно вращалось вокруг Земли, и Земля была центром Космоса, а Космос располагался на ладони у Господа Бога, все было упорядочено, мир был со всех сторон окружен Божественным началом, и в этой системе мироздания у каждого человека было свое место в соответствии с четкой иерархией; теперь же все это стало настолько немыслимым, что уже невозможно вжиться в ощущения тех людей, невозможно даже приблизиться к ним. Но существуют же некие физические константы человеческой сути, которые позволяют представить себе достаточно многое? Крестовый поход церкви против плоти, память о котором хранят романские капители, где наказание за сладострастие изображено с таким садизмом, что и в наше время становится не по себе, — но с другой стороны, полные любовного томления голоса трубадуров, чью похоть с трудом удерживает узда рифмы и ритма. Элик покачивается туда-сюда. Дипломную работу она писала по статье Кржиштофа Помиана «История и выдумка», а эпиграфом взяла арабскую пословицу, которую нашла у Марка Блоха: «Люди имеют больше сходства со своим временем, чем со своими отцами».
— По-моему, это азбучная истина, — сказал ее руководитель, — и потому бессмысленная, но звучит красиво.
При этом он конечно же положил руку ей на плечо и чуть-чуть сжал его, так, что сказать на это было, собственно, нечего. Она сняла его руку со своего плеча, словно незнакомый предмет, и поспешно отпустила. Наказанием вновь стала снисходительная ирония:
— Noli me tangere. [31]
— Если хотите.
— Ладно, в любом случае я считаю, что эти возвышенные обобщения ни к чему. Мы изучаем историю и ничего боле. А умозрениями пусть балуются взрослые мужчины.
Разумеется, взрослые мужчины, смешно было против этого возражать. Мужчины вообще не терпят, чтобы им перечили. Последний разговор после лекции о Гегеле получился не слишком удачным. Восторги Арно Тика («Ах, как жаль, что вы не слышали лекций Кожева [32]о Гегеле!») в какой-то мере раззадорили ее, но вычурные фразы великого мыслителя оставались для нее проблемой, а манера лектора говорить в нос еще более усложняла дело.
— Он произносит слова в точности, как Ульбрихт, — сказал один из студентов, слушавших этот курс с ней вместе.
Трудно сказать, правда это была или нет, но внешне лектор больше всего походил на морковку в костюме-тройке; отвечая на ее вопрос, показавшийся ему глупым, он заметил:
— Да-да, я знаю, что в голландских средних школах философии уделяется крайне мало внимания, а уж немецкую философию, вероятно, и вовсе не проходят, впрочем, невежеству нет пределов. С другой стороны, вы в этом, наверное, не виноваты. Как сказал Генрих Гейне: в Голландии все происходит с запозданием в пятьдесят лет.
— Вероятно, именно по этой причине Майнц, Гамбург и Дюссельдорф отказались установить памятник Гейне, и даже в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году ректор нового университета и местные власти не захотели назвать его именем Гейне, да и большинство студентов тоже этого не захотели.
— Вы хотите сказать, оттого, что Гейне был евреем?
— Это уж вы сами разбирайтесь. А по-моему, оттого, что Гейне был умным насмешником, и поэтому даже через сто лет, а сто лет — это два раза по пятьдесят, вы все еще не можете ему этого простить. Памятник, о котором я говорю, стоит сейчас в Нью-Йорке, в Бронксе. Наверное, там он себя лучше чувствует. Впрочем, насколько я знаю, Гейне ни о каких пятидесяти годах никогда не говорил.
От волнения она забыла, о чем его, собственно, спрашивала. Лектор, которого следовало называть не иначе как Неrr Professor, посмотрел на нее уничтожающим взглядом, из студентов в разговор никто не вмешивался, так что он продолжил свою туманную экзегезу. Беседуя с Арно Тиком, она высказывалась резко, и сама это прекрасно понимала, но сейчас, сидя дома в одиночестве, вдруг засомневалась.
Господи Боже мой, ну какой может быть прок от этой грандиозной словесной массы, из которой слушателя лишь изредка, наверное, затронут какие-то обрывки мысли, но затем гигантское целое снова станет похожим на окаменелый свод законов, а потом на почти религиозное стремление продемонстрировать, что все сходится; эти утопические органные тона недоказуемых предсказаний, обещание будущего, в котором, если Элик правильно поняла, мировой дух, кем бы и чем бы он ни был, познает сам себя, так что исчезнут все противоречия, терзавшие мир на протяжении целой истории.