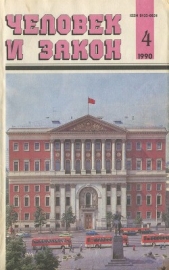Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале
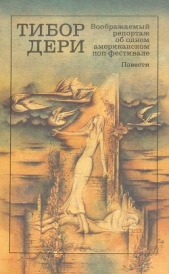
Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале читать книгу онлайн
В книгу включены две повести известного прозаика, классика современной венгерской литературы Тибора Дери (1894–1977). Обе повести широко известны в Венгрии.
«Ники» — согретая мягким лиризмом история собаки и ее хозяина в светлую и вместе с тем тягостную пору трудового энтузиазма и грубых беззаконий в Венгрии конца 40-х — начала 50-х гг. В «Воображаемом репортаже об одном американском поп-фестивале» рассказывается о молодежи, которая ищет спасения от разобщенности, отчуждения и отчаяния в наркотиках, в «масс-культуре», дающих, однако, только мнимое забвение, губящих свои жертвы. Символический подтекст повести — предупреждение о грозящей героям и всему человечеству моральной деградации, которую несут многие ложные ценности и приманки современного общества потребления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Правда, как уже говорилось, через два дня Ники от простуды оправилась, но притом была явно больна. Поскольку определить, что с ней, не было никакой возможности, Эржебет собралась однажды и повезла ее в ветеринарный институт. Отправились они пешком, но собака вскоре так устала, что пришлось сесть на трамвай; к счастью, Эржебет прихватила с собой намордник. Они прибыли на улицу Иштвана, однако у подъезда ветеринарного института Ники внезапно заупрямилась, уперлась лапами и остановилась. После многократных просьб и уговоров она, правда, подчинилась, но, не сделали они и десяти — двадцати шагов по саду института, остановилась опять и, взъерошив шерсть, попятилась. Анча дернула поводок и попробовала идти. Однако собака с несвойственным ей упрямством не уступала; она повернулась внезапно и изо всех сил потянула хозяйку назад. Ошейник туго охватил ее исхудалую шею; сдавил горло; Ники хрипло дышала, из-под соскальзывающих назад лап, дрожавших от напряжения, вылетали гравий и пыль.
Боясь, как бы собака не задохнулась, Эржебет Анча вернулась с нею к воротам. Трудно было понять этот невыразимый ужас, который без всякой видимой причины овладел животным, всем ее существом. Каждая шерстинка стала на Ники дыбом, белки глаз покраснели и почти совсем закрыли зрачки, дыхание со свистом вырывалось из легких. Если она оглядывалась мимолетно и взгляд ее обращался на здание института, по всему ее телу волнами пробегала дрожь, сотрясая поочередно зад, спину, голову. Каждая ее клеточка вопила от ужаса, словно собака почуяла за каким-нибудь окном института затаившуюся там сверхъестественную злую силу.
Выйдя за ворота, Эржебет Анча прямо на мостовой стала перед Ники на колени, прижимая рукой ее бешено колотившееся сердечко, стала гладить по голове. Ники понемногу успокоилась, пошла на руки. Но когда Эржебет опять вступила с нею в ворота и направилась к красным кирпичным корпусам, Ники, словно подброшенная судорогой, вырвалась неожиданно из ее рук и боком шлепнулась оземь. Вероятно, она упала неудачно и ушиблась, так как несколько секунд лежала на мостовой и тихонько скулила.
Случилось так, что как раз в ту минуту, когда Ники распростерлась на мостовой, в ворота вошла одетая в траур женщина с покрытой темно-синим платком клеткой в руке. Разыгравшаяся затем короткая мизансцена, которую вписал в нашу историю случай, укрепила Эржебет в уже принятом ею решении уступить неодолимому сопротивлению собаки и не настаивать более на посещении врача. Отчего животное противится этому с таким бешенством, из последних своих жизненных сил, она, конечно, сказать не могла бы, но, как женщина вообще, больше мужчин доверялась инстинктам, будучи, добавим к этому, на один крохотный женский шажок все еще ближе к тому неясному миру веры, который питается суевериями и в каждой наивной искорке случая неизменно видит символ и знамение… Словом, довольно об этом — так она решила и несколько минут спустя уже шла с Ники домой, сама расстроенная и потрясенная.
Женщина в трауре на миг задержалась возле лежавшей на мостовой, тихо скулившей собаки, жалостливо на нее поглядела. И тут темно-синий платок, которым была накрыта клетка, вдруг соскользнул с нее оттого, быть может, что женщина как раз переменила руку. В клетке за тонкой позолоченной проволокой покачивался на подвешенной вверху круглой деревянной палочке большой пестрый попугай, клювом своим выточивший в палочке узенькие дорожки. Пол клетки был посыпан тонким желтым песком, от дорожной тряски песок собрался по краям горками, открыв посередине голо поблескивающий металлический пол. Из-за проволоки, тревожа обоняние Эржебет, оказавшейся рядом с клеткой, потянуло сладковатым и затхлым птичьим духом.
Птица, помаргивая, озиралась в неожиданно брызнувшем свете. Но едва она увидела лежавшую под клеткой собаку, именно в эту минуту попытавшуюся встать на ноги, как ею ни с того, ни с сего овладел приступ неистовой ярости. Одним прыжком она с качелей прыгнула на решетку и, вцепившись в металлические прутья снизу когтями, а сверху мощным своим клювом, во всю длину раскинула огромные, сверкающие на солнце крылья, из угла в угол перекрывшие клетку. Неизвестно, чем так разъярила попугая безмолвно стоявшая рядом маленькая белая собачонка, но сомнений не было: он едва не обезумел от гнева. Попугай визжал, как вышедшая из себя старуха, огромным кривым клювом, словно скрюченным пальцем, указывая прямо на собаку, и отчаянно хлопал яркими крыльями по прутьям клетки так, что красные, синие и зеленые перья вылетали оттуда и, кружась, поблескивая, взвивались кверху.
Откуда эта ненависть? — думала позднее Анча, уже выскочив из ворот вместе с Ники и содрогаясь от пережитого волнения. Вся сцена продолжалась какие-нибудь секунды, но по насыщенности своей была столь ужасна, что даже потом, при одном о ней воспоминании, у Эржебет пробегали по спине мурашки. Попугай в полной истерике яростно стучал своим мощным клювом по металлически звеневшим прутьям клетки, так что казалось, он вот-вот переломит их надвое, и, осатанело хлопая крыльями, вопил отвратительно напоминающим человеческий голосом, как будто эта ничтожная пернатая тварь заговорила именем всего вселенского зла эпохи. В клоунски пестром своем оперении, с крохотными, воровато горящими глазками, кривым клювом и навязчивым карканьем попугай вполне сошел бы за глумливый циркаческий символ смерти, слетевший в ветеринарный институт прямо из какой-нибудь средневековой мистерии. Только оказавшись уже за воротами, Эржебет разобрала, что же каркала старая птица, какие слова выплевывала прямо в морду Ники, клювом своим вновь и вновь указывая на дрожавшую всем телом собаку. «Помер миленький… помер миленький… помер, помер-р!» — надрывался попугай и не прекратил насмешливого своего крика даже тогда, когда женщина в трауре бегом бросилась с ним к парадному входу института, держа раскачивавшуюся клетку в одной руке и синий платок в другой. Собаку и птицу уже разделяло по меньшей мере пятьдесят шагов, однако попугай, вцепившись когтями и клювом в прутья клетки, все еще провожал глазами Ники и ее хозяйку. Захлопнувшаяся дверь института обрубила злобный вопль его — и как раз на середине фразы!
Не скоро оправилась Ники от волнений этой поездки. Эржебет Анча, не зная диагноза, по-прежнему оставалась в неведении относительно болезни собаки, хотя мы подозреваем, что и ветеринарный институт вряд ли существенно просветил бы ее. Наука еще немного знает о человеческом теле, о теле животного еще меньше. А о душе!.. Не поминая уже о взаимных связях того и другого, которые и поныне исследованы, по крайней мере, не больше, чем какие-нибудь бразильские джунгли, Эржебет Анча, например, была убеждена, что причина таинственного недуга собаки в том, что отравлена ее душа. Всякий раз, когда она охватывала взглядом все более тощавшее тело Ники, ее тусклую, потертую шерсть, клочьями остававшуюся в руке, когда она ее гладила, видела выпирающие лопатки и таз, тускнеющий взгляд, ей и самой отчаянно хотелось поискать источник беды в глистах, чумке, болезни сердца и тому подобном, но Эржебет лучше знала или полагала, что лучше знает, чем больна собака. Она тоскует по свободе, думала Эржебет Анча. По той свободе, составной частью которой была возможность жить вместе с избранным ею хозяином, инженером Анчей. Ники тосковала по своему хозяину. Жена инженера не была сентиментальна и не переоценивала именно эту частицу свободы — хотя она, несомненно, сыграла большую роль в физическом угасании собаки, — но серьезно и непреложно убеждена была в том, что причину ее болезни следует искать не в кровеносных сосудах, не в костях, клетчатке и мышцах.
Эржебет утверждало в этом суждении и то, что как раз после поездки в Чобанку в состоянии Ники наступило явное ухудшение; очевидно, ожившие воспоминания о прежней счастливой жизни ускорили процесс самоотравления. Ники, видимо, больше не хотела жить так, как жила до сих пор. А ведь можно, оказывается, жить и по-другому? — вероятно, спрашивала она себя, видя перед собой залитый солнцем склон холма или широко разлившийся ручеек с плещущимися в лужице утками, и в ее памяти смутно возникала тень шагающего вслед за ней инженера в шляпе и с палкой. Значит, вот как жила я когда-то? Ну что ж, если так жить нельзя, поставим, точку. Возможно, и жало шмеля, некогда ее укусившего, теперь казалось ей наполненным медом. Во всяком случае, жена инженера не сомневалась, что болезнь собаки именно в этом, и потому бессмысленно, поставив ей в задний проход термометр, пытаться с его помощью измерить захирение души.