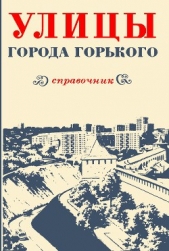Завещание убитого еврейского поэта

Завещание убитого еврейского поэта читать книгу онлайн
Роман известного писателя, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля рассказывает о почти неизвестном еврейском поэте. Сменив веру своих предков на веру в коммунистические идеалы, он в конце концов оказывается в застенках советской тюрьмы в разгар «борьбы с космополитизмом». Несмотря на хрупкий и нервный характер, поэт выдержал все пытки и никого не предал. Однако следователь находит способ заставить его разговориться: он предлагает заключенному написать воспоминания…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, есть и более рациональное объяснение: всякая война высвобождает сумасшедшие разрушительные силы. Стоит им сорваться с цепи, их невозможно обуздать. Об этом говорит и Талмуд: если ангелу-разрушителю позволить, он станет разить, не выбирая, будет косить и безбожников, и праведников. Во время войны человеческое в людях становится безумным.
Об этом я размышлял в промежутках между атаками и контратаками в Испании, а потом в Советской России. Живые существа превращались в ничто, хрипя, проклиная врага или небеса, а то и все вместе, или же молясь, слезно и бессвязно вспоминая мать, жену, а я говорил себе: это безумие, безумие.
Кто я, романтик или просто придурок? Во время войны смерть всегда наводит меня на мысль о безумии, причем мирообъемлющего свойства. Мужчины и женщины растут, учатся ходить, бегать, говорить, смеяться, воспевать жизнь, обличать зло… Ценой трудов и слез они пытаются защитить жизнь очень хрупкой оградой из счастья, живут внутри нее с чадами и домочадцами, собственными руками строя семейный очаг и мечтая о светлом будущем, конечно не безоблачном: со своими ловушками и скрытыми угрозами… И вдруг некто ими же избранный отдает приказ, и ритм времени изменяется: мановение руки одного человека обращает в ничто века усилий и надежд… Бессмертие бросается в объятия смерти, а мне хочется кричать: но это же безумие, безумие!
Я сопровождаю Карлоса, моего немецко-французско-венгерского друга (здесь его зовут Карлос, как Штерна — Хуан, Фельдмана — артиллерист Гонсалес, а Пальтиеля Коссовера — Санчес; все эти опереточные клички — вероятно, следы того же безумия, если с ними нас посылают в бой, а может, и на смерть?). От кого мы так хотим укрыться? Ангел смерти не дурак, ему плевать на наши игры, он тоже принужден шептать про себя, что все сошли с ума.
Так вот, я сопровождаю Карлоса в Мадрид. Столица осаждена, изувечена, но энтузиазм в ней клокочет. Измученный, но гордый город, как охотничий пес, рвется со сворки. «Но пасаран!» Фашисты не пройдут, рычит Мадрид, зная, что рано или поздно слова уступят напору ружей, рано или поздно этот бело-розово-багровый город будет опрокинут, расстрелян, побежден, поставлен на колени. Так почему же раздается крик «Но пасаран!»? Чтобы придать себе смелости? Почему сотни других городов на всех континентах вторят ему: «Но пасаран!»? Для очистки совести? Я спрашиваю об этом у своего приятеля Карлоса, и он отвечает:
— Да потому что… потому! Да, потому! Просто надо что-то кричать! Если хочешь, чтобы началась драка, прикажи всем закричать!
— Но это безумие, Карлос, просто безумие.
Предпочитаю вопящих психов тем, которые молчат.
— Но ведь я не кричу, Карлос.
— Потому что еще не научился ни кричать, ни воевать.
Несмотря на мои поездки на линию фронта, я не стал понимать войну ни на йоту лучше. Поскольку у меня сильная тахикардия и нестерпимые мигрени, я — хреновый солдат. Ружье в моих руках представляет опасность не для противника, а для меня самого. Если у меня на ремне и болтается револьвер в кожаной кобуре, так это чтобы производить впечатление на бойцов из отрядов милиции, мол, камрад Санчес — это не фитюлька какая-то.
Уличные бои свирепствуют. Эти подонки разъярены, они уже не боятся смерти. Красные тоже пышут яростью и полны решимости. Сталинград до Сталинграда. Каждый дом — крепость, всякий житель — герой. «Салюд!» — бросает нам на ходу капитан лет двадцати, вытирая рот рукой. «Салюд!» — кричит нам девушка, пригибаясь, чтобы не поймать пулю. Университетский городок, до которого рукой подать, походит на кладбище, где привычно пускаются в пляс мертвецы.
— Мне нужен команданте Лонго, — говорит Карлос. — Он должен быть где-то в секторе.
Девушка не знает, молодой капитан ничего не слышал. Нам встречаются комбатанты, либо сами раненые, либо несущие раненых. Спрашиваем у них, не знают ли этого команданте (на самом деле у него, видимо, не такое экзотическое имя: он, скорее всего, Лангер или Лейбиш). Да, некоторые знают, но им неизвестно, где он сейчас. Другие не знают, но думают, что если он команданте, к тому же в этом секторе, то, вероятно, он в убежище, у входа в парк, а пока — «салюд» и удачи!
— Что ж, Карлос, давай добираться до парка.
Пули так и свистят. Сначала бежим, согнувшись, потом уже ползем по мостовой. Ползущие навстречу приветствуют нас: «Салюд, салюд!», мы отвечаем: «Салюд, салюд!» и «Но пасаран!» В конце концов солдат из интербригады приводит нас в убежище под разрушенным четырехэтажным домом окнами в парк к команданте Лонго. Тот, стоя на коленях, изучает карту. Пот стекает ему на затылок. Всклокоченный, усталый, с покрасневшими глазами он выглядит настоящим дикарем.
— Что вам здесь нужно? — гортанным голосом, не поднимая головы, спрашивает он.
— Я должен передать тебе приказы, — отвечает Карлос.
— Так чего ты ждешь? Передавай.
— Не здесь, — уточняет Карлос, многозначительно сверля его взглядом.
— Ты рехнулся? Куда я должен идти? В гостиную?
— Это секретные приказы, — настаивает Карлос.
— Чего же ты от меня хочешь? Чтобы я послал тут всех на улицу проветриться?
Он проводит рукой по лбу, оставив на коже полосу из черного масла.
— Ну хорошо, — раздраженно решает он. — Я понял. Отойдем вон туда, в уголок.
Они уединились в сторонке, но не успел Карлос сообщить приказы, а Лонго их осмыслить, как в ту же секунду там рванул снаряд, и двух прозвищ как не бывало. Салюд, Карлос. Но пасаран, Лонго, Лейбиш или Лангер. «Нет, это чистое безумие», — говорю я себе.
И также «салюд!» — всем не переданным приказам, что так навсегда и остались мне неизвестными. Может, они готовили очень важную для нас операцию, которая обеспечила бы победу? Этого мне не узнать во веки веков. Когда я возвращался на базу, в мозгу гудела одна мысль: «Это безумие, война — безумие, она всех лишает разума».
Особенно в Барселоне…
В Барселоне внутри большой войны разворачивалась другая, малая. Война, скрытая от глаз, отвратительная, тупая, я в этом теперь отдаю себе отчет, хотя тогда не сознавал. Мне было известно, что маленькие вооруженные группы и группки разных движений и фракций, более или менее близких к социализму, анархизму или коммунизму, ревностно подсиживают одна другую, а при случае выступают друг против друга, кого-то при этом убивая, но я не знал, что отстрел ведется не только с бухты-барахты, но и по заведенной системе. Отдельные товарищи, а особенно их предводители растворялись в ночи: уходили с поручениями? Арестовывались людьми НКВД? Сомнение несколько дней витало в воздухе, потом приходило время забыть, перевернуть страницу, заняться другими проблемами, обнаружить новых исчезнувших; потом из «хорошо информированных источников» приходила весть, что действительно первые исчезнувшие еще находятся (или уже нет) в страшных подвалах той или иной тюрьмы, что их подозревают в оппозиционности, в групповщине, одним словом, в чем-то преступном… Надо ли было здесь возмутиться? Но ведь существовали и более насущные приоритеты, прежде всего — война с врагами, фашистами. А посему люди из НКВД занимались чем хотели, в свое удовольствие, не стесняясь, а главное, никого не приводя в стеснение. Их жертвы погибали, часто не ведая почему. А если б узнали, что бы от этого изменилось?
Это было глупо, гражданин следователь, глупо и абсурдно, признайтесь в этом (хотя вы привыкли, что вам признаются другие).
С одной стороны — спаянно, планомерно наступают фашисты, с другой — комбатанты и их союзники все еще разобщены, разбиты на группки, огрызаются друг на друга, всегда готовы пустить в ход ножи.
Первыми попали в оборот троцкисты, они все жили в отеле «Сокол» на улице Лас-Рамблас. Вслед за ними выловили их друзей. Потом взялись за тех, кто ни с кем не дружил: за анархистов. Вы мне скажете: «Политика прежде всего!» Нет, гражданин следователь, прежде всего — победа. И справедливость.
Я вам кажусь наивным? Да, был такой грех. Признаю, не стыдясь. И даже с гордостью. Я доволен, что был на испанской войне. Там я верил. Находился с правильной стороны, сражался за все, что составляет человеческое достоинство. Я сознавал это. Вот почему я принимал без спора казни на рассвете моих друзей троцкистов и анархистов, переступал через это, хотя они были моими друзьями. Надо ли мне теперь себя осудить? Что ж. Тем хуже. Я говорю с собой, когда пишу для вас. И отказываюсь врать себе.