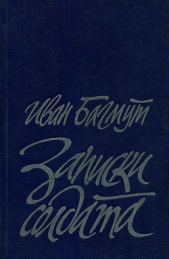Записки лимитчика

Записки лимитчика читать книгу онлайн
В книгу челябинского писателя вошли повести и рассказы, в которых исследуются характеры людей, противостоящих произволу, социальной несправедливости. Активный социальный пафос автора убеждает в том, что всякое умолчание о социальных бедах — то же зло. Книга утверждает образ человека, открытого миру и людям, их страстям и надеждам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, Сева, да! — говорил я. — Ты мог бы...
Он молчал. Молчание сгущалось. А потом его прорвало.
...— Стыдно, стыдно! — говорил Тацитов, сжавшись на своем стуле между столом и стенкой выгородки. — Годы проходили, а я так ничего и не сделал... Стыдно, стыдно!
Он темнел там, опустив голову, покачивал ею, не глядел на меня, а глядел перед собой. И проговаривал монотонно, серо, ужасающе просто:
— Стыдно, стыдно... Столько было возможностей! Прозябал.. Когда надо было действовать. Стыдно!
Он был трогателен: точно он, все познавший, умудренный прожитой жизнью, ошибками, судил, стыдил себя же самого — неменяющегося ленинградского мальчика. А мне сделалось отчего-то нехорошо. И исчезло куда-то желание продолжать разговор о другой жизни, более содержательной и более духовной.
..И вот в пятницу, ближе к 5 часам вечера, пришли с парадной лестницы все страхи января. История повторилась. Грянули звонки, и сразу же, что удивило, послышались звуки ломаемой двери. Представил явственно: нашей двери, с бакенбардами вылезшей из боковых щелей пеньковой подбивки...
Откуда-то, верно уж из другого мира, донеслось: «Христос сказал: «Я есмь дверь». И дверь теперь ломали.
Полуголый выбрался в коридор (а до того пришел уставший, ноги гудели, хотел полежать). Тацитов, отсыпавшийся после ночного дежурства, также казал в коридор странно изменившееся лицо, тут же и спрятался. Точно играл в прятки с какой-то темной и безжалостной силой.
Стоит начать восстанавливать картину и она оживает снова.
— Все равно откроешь... Хуже будет! — кричали ненавистно за дверью сквозь размолотую замочную скважину, и коридор почти зримо наполнялся чьей-то непонятной ненавистью, из мирного и знакомого он становился зоной страха, отчуждения — как когда-то!
Но кто же они? Новые аварийщики, то есть власть имеющие? Из беспорядочных, по-прежнему озлобленных криков тех, кто рвался в квартиру, вылущивалось одно: милиция!
Я сунулся было к Севе, который в эту минуту сидел у себя на койке, опухший с недосыпа, с черным отчаянием в глазах, и понял: бесполезно.
— Сломают дверь, — сказал ему, только чтобы что-то сказать: молчать сейчас было невозможно. — Надо открывать! Дверь не выдержит.
— Ну открой, только меня нет дома...
Его не было нигде, в этом сломленном существе — где ты, моя жалость? — ум отказывался признавать Тацитова. Но и сам я был на грани...
Пошел надевать рубашку, и словно кто-то рядом со мною шел в поисках могущей защитить рубашки, — сознание двоилось: мгновения отчетливо отсчитывали, и рос неумолимо счет: одно... другое... третье... На голое тело надернуть — иранскую коричневую, с короткими рукавами. Записные книжки скинуть в полиэтиленовую сумку. Все, что ли?
...четвертое... пятое... шестое...
Прежде чем открыть щеколду, дрогну, оглянусь: Сева огромными шагами устремлялся к повороту на кухню, мимо «Шидмайера»... И не успевал, конечно: рука моя уже сама собой открывала.
— Я не хозяин тут... — ровно сказал тому из двоих, кто был в милицейской форме; голос, кажется, не изменился. Но второй голос — во мне — тихо сказал: «Трус!»
Меня, однако, не слушали. Точно все знали наперед.
— Ты куда побежал? — крикнул милицейский мимо меня возбужденно. — Вон его спина!.. Хочет спрятаться!
Быстро шли, и молодой мужик в штатском готов был держать меня — в то время как своей воли, надо признать, у меня не было. Но я очнусь от беспамятства.
Пока же — меня спрашивали о чем-то... Кто и откуда? И — «Сей же момент паспорт!» Меня караулили — тот же штатский, поменьше ростом, послабей, пожалуй...
— Все документы показывай, все собери! — неистово кричали в кухне. Кому предназначались эти крики: Севе или мне?
И открылось следующее: Сева сидел боком на падающем стуле, но стул не падал; к Севе подступил милицейский и размахивал чем-то вроде ружейного шомпола — перед самым лицом. И лицо было несчастным.
— Ты почему не открывал? А? Ты убежать хотел? — Не передать было минуты.
Понятно стало, что это — участковый с каким-то пристебаем. Низко надвинута была на лоб фуражка, форменная летняя куртка оказалась без погон, что поначалу не воспринималось, при плотности его и видимой силе несколько хищный нос и очень светлые, немигающие глаза, говорившие одно: «Сила, сила же!..»
Пристебай ходил за мною следом и уносил на кухню, вслед за паспортом, трудовое соглашение — документ, подтверждавший, что я причастен к работе над историей старого демидовского завода на Урале. И демидовский завод меня спас, нежданно-негаданно что-то сделал с участковым.
Потом, когда попросил его назваться, — назвался так: Геннадий. Переспросил — и опять получил того же Геннадия. Странность, странность! Но она как бы не замечалась, ее отводила в сторону рука, густо поросшая светлым, точно стеклянным, волосом. Штатский, как и ожидалось, не имел имени вовсе и был тоже из милиции. Но это — потом, потом. А пока...
Двери — все до единой — открывались пинком, затворы и защелки, какие ни были, отлетали «с мясом». Спрашивалось у Севы:
— Куда ведет эта дверь?
И она, открывающаяся вовнутрь, казалось, замирала в ужасе. Сева же обычно не успевал ничего ответить — дверь выпинывалась.
— А эта? — И еще раз — пинком! — в поддающееся, старое, как все в этой квартире.
И беспричинная, как мне представлялось, словно остекленевшая в глазах, злоба.
Надо ли говорить, что квартира, подвергнутая насилию среди бела дня, потеряла лицо? Чудилось: ей стыдно. Ей стыдно и самое себя, и нас, ее беспомощных и временных жителей, и насильников, и никому — слышите! — нет никому прощения!..
И вот — мое трудовое соглашение с историей. Участковый прочитал его, мгновенный проблеск некоей стали — искоса взглядом полоснул. Я пояснил: консультирую дирекцию завода. «Консультант!» Этого было достаточно. Как-то заторопившись, он подал мне документы.
— К вам вопросов больше нет.
— А здесь я у товарища...
Он повторил:
— К вам... — он выделил это, подержал на весу... — вопросов нет. Живите сколько хотите!
Мне разрешалось жить! Щедрость была неслыханной, подразумевалась квартира, жизнь без поругания, но все равно. Оставалось выяснить: за чей счет — жизнь? Тацитова? И, словно нас с участковым кто-то приговорил к этому испытанию, мы посмотрели друг другу в глаза. Что ж, как я и предполагал: ни сочувствия, ни житейского участия... Но мысль, некая мысль, которую я у него тут же и уловил, — из непроизносимых, невычленяемых... Он, пожалуй, удивился, что я не отвел взгляда. Было так: выскользнуло удивление, наподобие радужного мыльного пузыря, и, опасно подрагивая, переливаясь, поплыло себе... Он понял: его больше не боялись.
И совсем перестал дышать пристебай штатский.
Потом парень этот бренчал на «Шидмайере», и звуки дико носились по квартире, он был в затруднении — молодая семья нуждалась в жилплощади; участковый Геннадий содействовал изо всех сил. Да, но как совместить нужду в жилплощади и погром в чужой квартире?
— Не кажется ли вам, что вы многое позволили себе?! Ворвались... ногами выбиваете двери...
Он невразумительно извинялся, двери были реабилитированы, момент покаяния, должно быть, ложного, родом оказывался из Златоуста, почти земляк, жена вчера только приехала оттуда, я должен был, наверное, оценить доверительность — жена!.. Она уже присутствовала здесь, едва ли не физически, но осознавалось совсем другое, наплывая вновь и вновь: страха моего и всеобщего — этого страха больше не было. Еще он, может быть, затаился где-то в старых стенах, бедных тумбочках, стульях, кроватях с топчанами, отпрянув от меня и, как я предполагал, от Севы, остававшегося в пределах кухни, но в эту-то минуту — незабываемую — я был свободен. Свободен!
Но если я был свободен, то Геннадий продолжал служить несвободе. Вот наш дальнейший разговор с ним — все о Севе кухонном. Вроде того, что тот в его глазах ничем не отличается от преступника, живет один. Я: пусть призрачна его жизнь, но он работает, постоянно работает, тут вы не придеретесь, у него постоянная прописка, за квартиру платит, какие к нему претензии, — объясните! Его сломали... Вы же и сломали! Доказательств его выморочности нет никаких, все в норме, все в порядке. Но не в порядке то, что живет один. Один! Его держали в психушке... Вы же его и загнали в психушку. И кому какое дело, что один? Разве это преступление? Так сложилась жизнь. Судьба! Разве так люди живут? Вы видели его комнату? Видел, видел. По-разному люди живут, по-разному! Какой-нибудь дворник на служебной площади... Ну, дворник. Я дворников знаю. Вот здесь жила одна из Хабаровска, аспирантуру заканчивала. Ну да, и работала дворником — я знаком с ней. Каждый год сюда приезжаю... Нет, один — это странно, невозможно представить! Все можно представить. В апреле был пожар, видели сгоревший диван? Видел, видел. И под предлогом тушения пожара его обокрали... Ну, не знаю. И соседи внизу жаловались: зимой он их залил. Но ведь лопнули же трубы отопления на чердаке — размерзлись, и от него не зависело... Человеку надо где-то жить! А Тацитов при чем? Но он не будет возражать, если наш сотрудник здесь поселится? Спросите у него! Спросим...