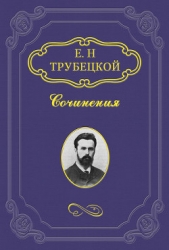Аватара клоуна
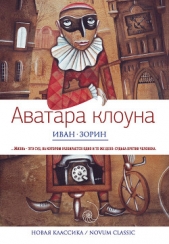
Аватара клоуна читать книгу онлайн
«Зорин – последний энциклопедист, забредший в наше утилитарное время. Если Борхес – постскриптум к мировой литературе, то Зорин – постпостскриптум к ней».
(Александр Шапиро, критик. Израиль)
«Иван Зорин дает в рассказе сплав нескольких реальностей сразу. У него на равных правах с самым ясным и прямым описанием „естественной жизни“ тончайшим, ювелирным приемом вплетена реальность ярая, художнически-страстная, властная, где всё по-русски преизбыточно – сверх меры. Реальность его рассказов всегда выпадает за „раму“ всего обыденного, погруженная в особый „кристаллический“ раствор смелого художественного вымысла. Это „реальность“, доведенная до катарсиса или уже пережившая его».
(Капитолина Кокшенёва, критик. Россия)
…Кажется, что у этой книги много авторов. Под одной обложкой здесь собраны новеллы в классическом стиле и литературные экзерсисы (насыщенные и многослойные тексты, полные образов, текстур, линий и аллюзий), которые, возможно, станут классическими в XXI веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда Витька вернулся, философ был уже мёртв. Он лежал, вытянувшись на постели во весь свой огромный рост, и от него, как и при жизни, веяло какой-то детской наивностью. Он там, подумал Витька, где уже не помогает раскаяние. Потом медленно прислонил дуло к виску и выстрелил.
Игнат и Кондрат
«Каждый человек – писатель, он пишет своё житие невидимыми чернилами», – думал Игнат Трепутень, кусая гусиное перо. За слюдяным окном догорал семнадцатый век, Иван-колокол пугал ворон, а в Кремле, заглушая его, шептались по углам.
«Что страшно одному – другого не пугает», – продолжал размышлять Игнат. На площади чернели головы с пиками вместо шей, галдели птицы, вырывая друг у друга мёртвые глаза, и перья, измазанные запёкшейся кровью, сыпались на булыжник.
Игнат всего с месяц как сменил рясу на кафтан. «Послужи государю твёрдой рукой», – перекрестил его на дорогу игумен с высохшим от молитв лицом. У предыдущего писаря нос скривили клещи усов, а взгляд был такой острый, что хоть перо очинивай. Но на масленицу, проверяя глазомер, он высчитал глотками бутыль медовухи и допустил пропуск в титулах царя. От страха у него выпали волосы, хмель выветрился, а тень встала дыбом. Но с бумаги букву не вырубишь. Тараща медяки глаз, он уже видел, как точат топор. И, расплетя с перепугу лапти, стал вить верёвку. Но потом, растолкав стражу, удрал к шляхтичам, принюхиваясь к пограничным заставам, точно зверь. Он бежал, выскакивая из порток, и в Варшаву явился, в чём мать родила.
Звали его Кондрат Черезобло.
Вслед ему полетели грамоты. Их под диктовку думного дьяка выводил Игнат. Красивым почерком, за который его взяли из монастыря.
Изо дня в день Игнат прислонял букву к букве, макая носом в чернильницу. Он всегда держал её под рукой, а перо за ухом. В его замурованной келье едва поместился стол, на котором, переплетая пламя косичкой, денно и нощно чадила свеча. Игнат сидел на высоком стуле, болтая ногами над земляным полом, заслонившись от мира кованой дверью и ворохом бумаги.
А за Кондратовой душой явился государев человек.
– Не сойти мне с этой половицы, – топнул он каблуком, оттопыривая карман, из которого глядела тьма, – пока здесь не окажутся его кости!
В королевской свите спрятали ухмылки:
– Но ваш подданный ссылается на нехватку чернил… Оставалось расшибить лоб. Однако Москве упрямства не занимать, и посол гнул своё.
– Кондрашка умалил честь помазанника! – стучал он посохом, багровея, как рак. И пока анафематствовал, зашло солнце. – Впрочем, воля ваша, вам выбирать…
– А в чём же наша воля?
– Кол или виселица! Ему отказали.
Боярин выломал под ногами половицу и, унеся с собой, сдержал слово.
Однако домой он вернулся с пустыми руками. И это ему не сошло. Звали посла Чихай-Расплюев, а указ о его ссылке написал Игнат Трепутень.
Была ранняя весна, Кондрат брёл по нерусскому лесу, разглаживая седые колтуны мокрым снегом, и сочинял стихотворение:
ЧУЖБИНА
Пел ветер, скрипели сосны, и воспоминания уносили его в Москву. А там икалось Игнату. Он запивал икоту квасом, корпел над челобитными и, причащаясь, видел отражённого в чаше змия. «Повинную голову и меч не сечёт», – искушал он беглецов аккуратными ижицами и ятями. Ото лжи у него шелушился нос, и он соскабливал кожу ногтем.
А после спускался в подвал – смотреть, как, выжимая рубахи, трудятся до седьмого пота палачи.
Иногда он получал в ответ сломанную пополам стрелу. И тогда понимал: ему не верят.
Игнат седел изнутри и, оседлав свой возраст, был лыс, как колено. «Не перебегай дорогу зайцу, чтобы чувствовать себя львом», – учил он. Однако его боялись. Величали по отчеству и ломали шапку перед его железной дверью.
Теперь у него всё было написано на лице. Но прочитать по нему было ничего нельзя. Когда же он невзначай проводил по лбу платком, там отпечатывалось: «Холопу – кнут, боярину – почёт!» И он торопливо прятал в карман свою мораль.
На пирах Игната превозносили до небес, а за спиной ему мылили верёвку. Он принимал это как должное. В своих ночных мыслях он доказывал, что прощать врагов – значит вовремя их предавать, и не опускал глаз, когда угодники на иконах заливались краской. «Памятники рукотворны, – приговаривал Игнат, отправляя в Сибирь завистников, – к славе каждый сам себя за уши тянет».
Раз в келью явился татарский мирза Ага-Кара-Чун. На нём было столько крови, что пока он говорил, она стекала ручьями с рукавов.
– Тебя же четвертовали… – удивился Игнат, вспомнив, как гудело лобное место: «Ну что, секир-башка, добунтовался!»
А теперь татарин стоял цел и невредим.
– И что? – в свою очередь удивился гость. – Разве можно, расчленив тело, разъять душу?
Взяв правую руку в левую, он почесал её об угол стола. Игнат покосился на дверь: соглядатаев при дворе, как грязи.
– А вот скажи, Игнат, – отрубленная голова закачалась параллельно полу, – что ты ответишь не мне и не государю, а там, – мирза вздёрнул палец, – когда тебя спросят, зачем ты из слова извлекал корысть?
– Я служил царю твёрдой рукой, – начал писарь, возвышая голос, – и всякий, кто оскорбит святейшую особу…
– Эх, Игнат, Игнат… – усмехаясь, перебил татарин. – Гордыня говорит твоими устами! Я видел царства, в сравнении с которыми твоё – клочок земли. Я видел Чингисхана и Кира Великого, когда Железный Хромец сыпал груды черепов, я стоял рядом, я шёл за ордами Атиллы и полчищами Махмуда Завоевателя. Поверь, любой поступок – только грех другого поступка, их лестница не приводит ни в ад, ни в рай, она упирается в бесконечный тупик… – Татарин сложил конечности, как в коробку. – А ещё раньше я услышал голос: «Где брат твой?» – и ответил, что не сторож я брату своему. С тех пор меня обрекли бродить по свету и кричать человеку: «Проснись!..»
– Проснись! – тряс за плечо Игната думный дьяк. – Надо писать благодарственную – Ага-Кара-Чуна казнили…
В польском лесу Кондрат слыл книгочеем. «Очень важно не прочитать лишнего, – предостерегал он щебетавших по кустам соек. – Никакая книга не может стать Евангелием. Даже Евангелие». Он всё больше сгибался, уже касаясь мизинцами икр, так что издалека казалось, будто катится колесо. «Раньше мои пятки сверкали, как грудь молодицы, – разгоняя кровь, упирался он босыми ступнями в ежа, – а теперь они, как глаза вдовы…»
А Игнат продолжал бегать за собственным носом, наступая себе на пятки. «На родине и сухарь сладок, – соблазнял он, – на чужбине и мёд в рот не лезет». Его прилагательные виляли хвостом, а от глаголов пахло кандалами. «Бескрылая муха не жужжит», – цедил он, когда вернувшиеся корчились на дыбе и глохли от собственного крика.
У слов двойное дно, они кричат, чтобы заглушить тишину.
Шли годы. Будущее входило в левое ухо и собиралось у правого виска, поэтому пророчества лгали, а сны сбывались лишь после смерти. Пропуская время, как нить сквозь игольное ушко, Игнат двигался, растопырив руки, и ловил всё, что в них плыло. Он уже переселился в дом с резным палисадом и целующимися голубями на воротах. В его саду пахло липой, а среди корней гнездились конуры, где цепные псы лаяли так, что у чертей лопались перепонки.
С женой Игнат был счастлив, а она с ним нет. С утра они находили общий язык, который к вечеру теряли. И каждый год у них рождались немые дети. «Это ничего, – отговаривался Игнат, – говорят на языке брани, на языке любви молчат». В приданное он взял имя Чихай-Расплюевых, между чётными и нечётными буквами вставлял себя и заедал кисели соловьиными язычками.
Но жизнь закусывает мёд перцем. Однажды на Игната напала хворь – в языке у него завелись кости, и он смолк, боясь, как бы тот не повернулся в ненужную сторону. К тому же у него ослабела рука, его гласные стали пускать петухов, а согласные трещали кузнечиками. И его отстранили от дел. Теперь он горбился у печи, ворочал кочергой угли и, как все старики, слушал упрёки детей. Обступая его вечерами, они, точно побитые псы, шевелили ушами, нарушали тишину молчанием и, говоря невысказанное, обиженно кривили губы.