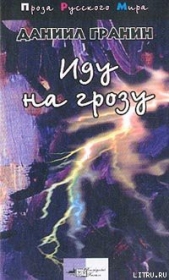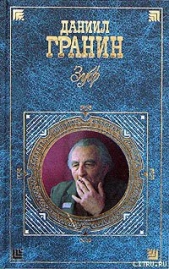Иду на грозу. Зубр

Иду на грозу. Зубр читать книгу онлайн
В книгу известного русского писателя Даниила Гранина вошли его знаменитые произведения "Иду на грозу" и "Зубр", посвященные судьбам отечественных ученых и изобретателей, нравственной ориентации личности, духовному поиску человека пауки, мере его ответственности за сделанные открытия и их последствия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В комнате теоретиков давно не собирались. Еще держался застарелый запах курева. Блестели рыжие грифельные доски. Он уселся верхом на стул, лицом к маленькой кафедре и председательскому столику, за которым обычно, запустив руки в свою шевелюру, сидел Дан.
При виде этой кафедры Крылов всегда вспоминал свой первый провал.
А что, если у Голицына ты ничего не сумеешь? — спросил он себя. Способен ли ты поднять такую тему? Господи, наконец-то ты можешь заняться ею! И нечего больше рассуждать, ты слишком много рассуждаешь. А как же быть с диссертацией? Такая легкая, удобненькая диссертация. А как быть с твоей карьерой, и с обещанным тебе комитетом, и с этими бесподобными заседаниями? Порассуждай, тебе полезно, вспомни, как ты просился к Дану хотя бы лаборантом, каким ты был шибко храбрым. Какого черта ты боишься, разве ты все знаешь о себе? Разве ты дошел до предела? Да и есть ли предел, человек сам себе ставит предел, предел в самом человеке, предел — это мужество. К чертовой матери Лагунова, и его расположение к тебе, и твои страхи! Что такое центр грозы — вот что важно. И что такое гроза, и как это все происходит.
Лагунов и Савушкин решили, что он спятил. Зачем к Голицыну? Там же полная неизвестность. Там придется начинать с нуля. «Лагунов тебе этого не простит», — предупреждал Савушкин. Но Крылов блаженно улыбался: «А что представляет собой центр грозы?»
Жаль, что вот так и не пришлось выступить с этой кафедры. Он встал и ласково похлопал ее фанерную стенку.
Молодость кончилась. Только и осталось от нее давнее, немного поостывшее желание выступить с этой кафедры. Когда-то ему уже казалось, что молодость кончилась, но теперь-то он знал наверняка, что прощается с ней.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Окна самолета были залеплены густым серым месивом. Мелкие капли косо ползли по стеклу. Иногда серое тоньшало, процеженное тусклым светом, и тотчас снова подступало сгущенной мглой. Тени клубились, проносились стремительно, тревожно, моторы начинали реветь, и Женя всем телом ощущала напряженную дрожь самолета.
Она вспомнила, как на аэродроме синоптик, крючконосый, зловещего вида старик, сказал ей:
— Не советую, Женечка. Помяните меня, нечего вам там… Оставайтесь.
Синоптик питал к ней нежные чувства. Она хотела расспросить подробнее, но к синоптику подошел Агатов, и они зашептались. И это показалось ей неприятным.
Самолет тряхнуло. Женя оглянулась на Агатова. Он сидел сзади, сбоку. За полторы недели он, единственный, нисколько не загорел, сохранял московскую белизну, которая здесь казалась неестественной. Агатов исподлобья следил за Тулиным.
Розоватые отсветы обегали кабину. Женя прильнула к стеклу. Клубы светлели, наливались бегучей прозрачностью. Тонкие клочья неслись все быстрее, легкими дымными хлопьями. И вдруг в какой-то неуловимый миг истоньшавшая пелена порвалась, и вся кабина самолета озарилась солнцем.
Женя вскрикнула от восторга. Перед ней открылась слепяще-белая долина, с фантастическими замками, башнями, зубчатыми стенами, головами диковинных животных. Тень самолета бежала по холмам и уступам, сделанным из того же белоснежного, чуть подвижного материала. Хотелось выпрыгнуть из кабины и зашагать по блистающей, упругой поверхности этой волнистой страны.
На земле дождила пасмурная хмарь, и не верилось, что где-то может быть солнце. А тут оно сияло неизвестно для кого, в тишине этой снежной равнины, и было непонятно, как может быть на земле пасмурно и дождливо.
На колени упала скомканная бумажка. Женя обернулась. Катя, сидящая через проход, показывала на мигающую сигнальную лампочку. Женя схватила карандаш, записала показания. Приближалась зона повышенной напряженности.
Замечает ли кто-нибудь, что творится за окнами? Нет, все работали, уткнувшись в свои пульты. Катя рассеянно улыбнулась ей и снова наклонилась к счетчику, прыгающему на резиновых оттяжках.
Сквозь открытую дверь в летную кабину было видно, как Тулин что-то показывал пилоту. Солнце высветило резкий профиль Тулина, угол глаза с длинными ресницами.
На второй день после приезда Женя столкнулась с ним. Он не допускал ее и Катю к полетам. В разгар перепалки Тулин вдруг улыбнулся и сказал:
— А ведь мы с вами знакомы. Помните: Москва, парк, гроза, беседка.
— Что ж из этого? — произнесла она ледяным тоном.
Здорово она осадила его, и он не нашелся что ответить. С тех пор он изо всех сил выказывал ей свое безразличие.
Светлые волосы упали Тулину на лоб, и солнце вызолотило их. Вдруг он обернулся, сразу поймал взгляд Жени и сердито захлопнул дверь. Женя довольно усмехнулась. Она с силой уставилась на взъерошенный затылок Крылова. Прошла по меньшей мере минута, пока Крылов забеспокоился, начал оглядываться. Они встретились глазами, Крылов недоуменно пожал плечами и снова обратился к приборам.
Щеголеватый штурман Поздышев, раскачиваясь, шел по проходу. Латунные застежки его франтоватого комбинезона сияли от солнца. Он посмотрел на Женю и подмигнул ей, она тотчас приняла строгий вид. Забавно, что мужчины чувствуют ее присутствие. Последнее время это случалось все чаще — в метро, на лекциях, в автобусах она замечала устремленные на нее взгляды, и даже если на нее не смотрели, она считала, что это нарочно.
Пристально, повелительно посмотрела она на Ричарда. Он оторвался от прибора, завертелся, поймал ее взгляд и покраснел. Ей нравилось, когда Ричард краснел. У него разом жарко вспыхивали шея, лицо, и Жене в такую минуту хотелось погладить его по горячим щекам.
Единственный, кто сейчас не поддавался ее гипнозу, был Агатов, — сколько она ни смотрела на Него, он не реагировал. Его белое лицо, склоненное над приборами, оставалось недоступно деловитым. Он водил головой от приборов к тетради, от тетради к приборам, как мерно работающая машина.
Жене стало скучно. Выключив счетчик, она подошла к Ричарду.
— Я загадал, подойдешь ты или нет, — сказал он.
Ее охватила внезапная досада.
— Подумаешь, гипнотизер! Дай мне бланк.
Он послушно протянул бланк, задержал ее руку и принялся рассказывать про какие-то заряды.
— Голову даю на отсечение, что Тулин абсолютно прав…
— Мне надоел твой Тулин, — сказала она. — По-моему, он самоуверенный пижон. Тулин, Тулин… Неужели тебе больше не о чем со мной…
Он смущенно стиснул ее руку.
— Есть вещи совершенно ненужные и невозможные для роботов, например юмор. Им юмор ни к чему. И стихи, и сны, и любовь. Они возьмут от человека такие вещи, как память, точность, логику. А всякие штучки, придуманные людьми ради украшения их тусклой жизни, для роботов — хлам! Здорово? Могу о птицах…
— Болтун!
— Я, когда смотрю на тебя, несу всякую чушь. А на самом деле…
— Что на самом деле?
— Ты же знаешь!
— Ничего я не знаю!
Она протянула руку.
— Пусти!
— Подожди!
— Пусти! — сердито повторила она, и он опечаленно сник. Его послушность, которая всегда нравилась ей, сейчас злила.
— Хочешь, я тебя поцелую при всех? — пробуя улыбнуться, сказал он тихо, и в глазах у него стояла такая обожающая робость, что ей самой захотелось поцеловать его. Она расхохоталась.
— Об этом не спрашивают. Герой!
Фыркнув, она отправилась в хвост, на свободное кресло.
Однажды она не удержалась, погладила его по щеке, он чуть не задохнулся и расцеловал ее. Это было еще зимой. С тех пор, когда она разрешала ему поцеловать себя, он шалел от счастья. Собственная власть удивляла ее, стоило нахмуриться — и он уже ходил встревоженный, а когда у нее было плохое настроение, то он вообще становился несчастным.
Весной они пошли на выставку польской живописи. Возле картин абстракционистов шумели спорщики. Разумеется, Ричард немедленно вмешался, доказывая, что реализм устарел, передвижники устарели. Конечно, «правоверные» накинулись на него, потребовали объяснить, что изображают эти круги и кляксы, и он, конечно, отвечал, что ничего не означают, надо дорасти до понимания современного искусства, невозможно передать словами музыку, попробуйте объясните слепому, что такое цвет. Эта живопись отражает новую физику — для атома нет разницы между стулом и табуреткой, мир стал богаче, сложнее. Ему кричали: «А Репин?» И он кричал: «Ваш Репин — это примус!»