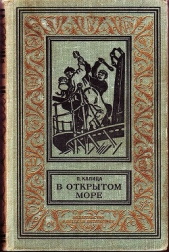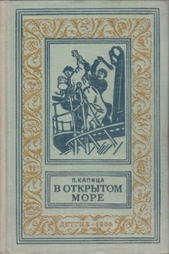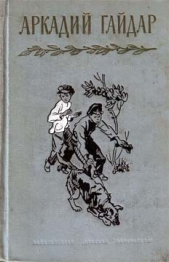Человек не отсюда

Человек не отсюда читать книгу онлайн
В новой книге Даниила Гранина тесно переплелось художественное с документальным. История в этих текстах становится фактом частной жизни, а частная жизнь — фактом истории. И это дает возможность каждому читателю почувствовать себя включенным в большое время. Если в своих первых, ставших культовыми для нескольких поколений, книгах Гранин учит, как менять судьбу, то теперь он показывает, как следовать ей.
Даниил Гранин (р. 1919) — классик современной литературы. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе» — настольные книги нескольких читающих поколений. Уже в XXI веке роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012).
Д. А. Гранин — почетный гражданин Санкт-Петербурга, председатель правления Фонда им. Д. С. Лихачева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что у него произошло с Агнессой, вдруг как-то связалось с одним забытым солнечным днем в Японии, в Киото, он вдруг всплыл, этот солнечный день, в Саду камней. Арена, усыпанная белым песком, и на ней в беспорядке торчат камни; необработанные, диковатые, непонятная картина, окруженная скамейками, как в театре. За годы эта картина расплылась, лишилась подробностей, что-то к ней прилепилось, наверно, присочиненное.
Этот Сад камней — самый знаменитый сад в Японии, так ему объясняла переводчица. Камни, вросшие в белый песок, ни одного дерева, ни одной травинки. Вряд ли бы я сам мог понять, в чем смысл этого зрелища. Сюда приезжают туристы со всех стран, приходят японцы — зачем? Оказывается, это наглядное зрелище, где проявляется мощь учения дзен, нет ни одного сада, по поводу которого строилось бы столько догадок. «Кто его создал?», «Как его создали?»
Камней всего пятнадцать. Он немедленно сосчитал — их было четырнадцать. Они были расположены как попало. А оказалось, что не как попало, оказалось, что их не четырнадцать, а все-таки пятнадцать, так утверждала переводчица. Она была японка, и улыбка у нее была крошечная, еле заметная, она улыбалась не надо мной, а над тем, что я не понимал, а она знала. Этот храм возник из междоусобицы XV века. Здесь был храм, он сгорел, его отстроили заново, видимо, в конце 90-х годов XV века. Храм хранит для японцев воспоминания о закованных в броню солдатах, обрызганных кровью, это они, как ни удивительно, устроили этот сад.
Казалось бы, все должно быть поглощено войной, ан нет, строили сад, золотой павильон…
Сад тогда был другим. Росла трава и деревья. Потом они решительно отказались от всего, что меняло свой облик.
Сад приобрел беспредельность вечной жизни. Дух «бисара» развился, совершенствовался, чтобы выразить дух «дзен». Абсолют почти по Гегелю, не связанный с пространством и временем, потому что и они имеют границы.
Я не представлял себе, что все это можно описать на бумаге, очарование этого места и каждой вещи. Всего лишь пятнадцать камней, а видно всего четырнадцать, с какой бы точки ни смотрел, всегда четырнадцать, всегда не видно пятнадцатого. Наверно, жаждали они показать устойчивость, живя в этом изменчивом мире среди войн и катастроф. Этот сад не меняет свой облик; как живая природа, он рождает ощущение покоя, той вечности, которой люди жаждут. Создатели сада исключили и воду, и деревья, только в камнях они видят облик вечности, которая умиротворяет их сердца. Среду раздоров. И в то же время этот сад выражает души, жаждущие новизны и перемен. Я обходил сад по кругу и ниоткуда не увидел пятнадцать камней, всюду было четырнадцать, а тот, пятнадцатый, между тем присутствовал где-то, заслоненный, невидный и невидимый, прятался в тени других. И сколько бы ни ходил, ни искал, всегда было четырнадцать. С любой точки зрения, несмотря на то что расположение камней менялось, т. е. они-то были неподвижны, виделись они каждый раз по-другому, и человеческое «я» должно было меняться, ибо изменялась вот эта взаимосвязь между камнями, но они оставались на своих местах.
И вот теперь, спустя годы, ему вспомнился этот сад как модель его собственной жизни. Этот сад опрокидывал самоуверенность его знаний. Он вспоминал и вспоминал, сколько заключалось в этих камнях, раскиданных по белому песку, они теперь, спустя годы, открывали все новые смыслы. Многое забылось из того зрелища, из объяснения переводчицы, но теперь вспомнилось, когда он расстался с Агнессой и не мог понять, почему они расстались. Он знал ее, знал себя, но что-то он не знал, наверно, в ней этот пятнадцатый камень всегда был невидим.
Он понимал, что любой человек это тайна. И Агнесса была тайной. И непонятно было, почему у них все кончилось. Он думал, что все можно предвидеть, все можно сосчитать, все молекулы, острова, реки… Ничего подобного. Оказывается, был пятнадцатый камень, какой-то другой, чем четырнадцать, какой-то неизвестный остров в море, она его видела, может быть, а он его не видел.
— Ты, милая, осуждаешь культ денег. Я тоже. От него много бед пришло. Культ денег противопоказан культуре, интеллигентности, скромности. Но иногда мне думается, может, этот культ неизбежен, слишком долго мы жили в бедности, теперь уже трудно представить, в какой бедности, тебе не вообразить. Это была городская бедность, бедность служащих, рабочих, бедность нашей интеллигенции. Как мы одевались? Перешивали старую одежку. Лицевали родительские пальто. Мои носки мать штопала. Ботинки чинили. Представляешь, шариковые ручки перезаряжали. Были такие специальные пункты. Отец мой носил рубашки со съемными воротничками. Так рубашка дольше сохранялась. Мать сама делала горчицу, натирала хрен — так дешевле.
Сейчас культ денег, а тогда, в 30-е годы, был культ дешевки. Технология бедности проникла глубоко. Сухие дрова для печки были дороги, дешевле были сыроватые, сушили их у себя в комнатах. Ходили в ботах, носили башлыки. Галстуки изнашивали до дыр. Карандаши использовали до огрызка. Можно перечислять без конца. Сейчас выглядит унизительно — бедность всего нашего быта. К примеру — еда, каши, дешевые — перловка, манка. Макароны. Вываривали кости. Покупали субпродукты. Конфеты моего детства большей частью леденцы, ириски, маковки. Зато были кое-какие преимущества — еще натуральное, в нашей жизни не участвовала химия, не знали, что такое фальсификация.
В Летнем саду по воскресеньям играл духовой оркестр.
В городе было много лошадей, они возили, на них ездили. Были извозчики. Были ломовики, ныне это грузовики, грузовые автомобили.
Мусор был другой, совсем другой, не такой бумажный, как ныне, вся бумага использовалась: растопка для печек, туалет, оборотная сторона для записок. Писали чернилами, лиловыми и красными химическими карандашами, не знаю, как объяснить, что это такое, зато помню лиловые языки в школе, им слюнили эти химические карандаши.
На рынке можно было купить живую куру, неощипанных куропаток, тетерок, рябчиков. Почему-то помнятся — шкуры медвежьи, бурые.
Зимой по городу ходили в валенках и в бурках: валенки, подшитые кожей, с каблуками.
Вместе с предметами исчезли и их названия, целый словарь исчез: шифоньер, гамаши, керосинка, завалинка, чернильница, конторка, портупея, авоська, ледник, серсо…
Это вещи, а были еще понятия, они тоже исчезли — учтивость, кавалер, утварь, ухват… — их сотни, уходящих в небытие, тех, что составляли мир наших дедов, прадедов и родителей: компромат, местком, мещанство, проработка, подписка на заем, продовольственная карточка, панталоны…
В некоторых людях я чувствую Божий замысел. В них сохраняется нечто от Адама, таков был Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Такова была моя Римма. Много этого в моей дочери Марине. Хочется любоваться такими людьми, осознать красоту сотворенного. Замысел, о котором я говорю, всегда замечательный: воплощение радости, добра и благодарности к природе. Благодарность эта с возрастом тускнеет, исчезает, сменяясь жалобами и просьбами. Меньше стало того человека, которого замыслил Господь. С самого начала он, наверное, увидел неполноту созданного мира. Чего-то не хватало в нем. Были птицы, рощи, реки, всякая живность, кому-то следовало любоваться этим, осознать красоту сотворенного. И был создан человек. Но ему все было мало.
Все же иногда появляются его потомки, то совершенное, что было задумано.
После войны на Карельском перешейке, под Питером, грибов было уйма. Мы собирали полные корзины белых, красных, рыжиков и почему-то больше всего маслят. За час-полтора — и больше класть некуда. Озера кишели рыбой. Ягод было полно: морошка, клюква, малина. На покинутых финских фермах кусты отборной смороды, много клубники. Несколько лет еще цвели среди развалин беспризорные цветочные клумбы. За порушенными заборчиками вовсю буйствовали сады. В сентябре глухой стук от падающих яблок, груш слышался по всему перешейку. В Комарове долго сохранялись семейства белок, дятлов, соек, мелькали лисы, зайцы, были даже рыси — природа наверстывала, годы войны были для нее отдыхом. Нас поубавилось, стало мало, зато птиц, зверья прибыло, леса наполнились звуками, нигде ни до этого, ни после я не слыхал такого множества птичьих песен.