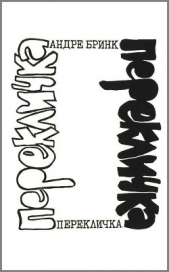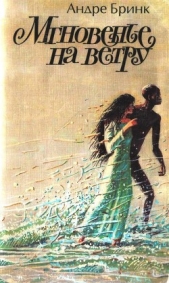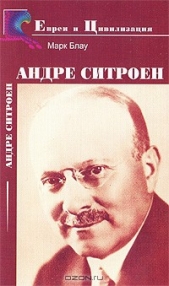Слухи о дожде. Сухой белый сезон
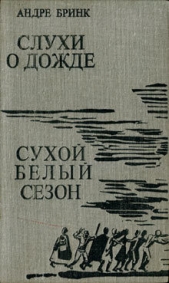
Слухи о дожде. Сухой белый сезон читать книгу онлайн
Два последних романа известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР.
Роман «Слухи о дожде» (1978) рассказывает о судьбе процветающего бизнесмена. Мейнхардт считает себя человеком честным, однако не отдает себе отчета в том, что в условиях расистского режима и его опустошающего воздействия на души людей он постоянно идет на сделки с собственной совестью, предает друзей, родных, близких.
Роман «Сухой белый сезон» (1979), немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Там, где Мейнхардт совершает предательство, Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и права африканского населения страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще о многом нужно написать. Мне предстоит рассказать, как было дело с отцом, с Луи, с Беа. Но с Бернардом я наконец разобрался. Слава богу. Теперь с этим покончено. Отныне его имя не должно больше всплывать в моей рукописи.
Ночь стояла холодная, но под пуховым одеялом было тепло и уютно. Я слышал, как скребутся мыши на чердаке, за тяжелыми сводами потолка. На пороге, рыча и храпя, спала собака. Время от времени стрекотали сверчки. А снаружи доносился знакомый с детства таинственный звук: что-то вроде поскребывания черпаком по камню. Ночная птица или какое-то животное? Я никогда не мог узнать. Что-то было в нем странное, ночное.
Я снова на ферме, в окружении знакомых с детства, удобных и добротных вещей; мои родичи спят; одни на кровати, другие на кладбище — целая история. Я должен чувствовать себя в безопасности и под защитой. И все же я знал — или, вернее, знаю сейчас, задним числом, когда пишу эти строки в Лондоне, — что подобно тому, как все двери и окна дома были беззащитно открыты ночи, я был слишком встревожен и уязвим, чтобы убежать от всего ожидавшего меня. И погружение в сон напоминало погружение в воду и тину — и я беззвучно звал на помощь, но никто не бросался с берега, чтобы помочь мне.
Суббота
1
А любви не имею… Я только что нашел эти слова в Библии, но они показались мне какими-то вялыми и ничего не значащими по сравнению с их торжественным звучанием в детстве. Да и все в нынешнем зыбком пребывании здесь, в Лондоне, представляется блеклым и незначительным по сравнению с моими жгучими воспоминаниями. Я пишу это сочинение, пробуя на нем руку, не без некоторого цинизма. И теперь мне не остается ничего другого, как продолжать, хотя дается это нелегко и сам процесс писания, записывания всего подряд, стал уже почти принудительным.
А любви не имею… гулкий рокочущий голос дедушки, очки на носу, настольная лампа возле Библии на голландском, с медными застежками (теперь это украшение на дверце бара в моей гостиной), каждый слог произносится отдельно и с выражением. Когда мы с братом были маленькими, вечерняя молитва означала для нас приобщение к ритуалу взрослых, состоявшему из чтения, молитв и песнопений. Я не понимал ни слова, да и не пытался понять. Но было нечто успокаивающее и умиротворяющее в самом соприсутствии великим словам, тяжко грохотавшим над тобой и защищавшим тебя могучей стеной от звуков из мрака снаружи. Но как только нам стукнуло шесть — сперва мне, а потом Тео, — от нас потребовали повторять что-нибудь, что мы запомнили из дедушкиного чтения. С этого времени религия перестала быть для меня темной, но приятной и сделалась пугающей. Охваченные паникой, мы пытались выхватить что-нибудь из размеренного и непрерывного потока дедушкиной рецитации, ужас парализовал нас, когда выяснялось, что слово ускользнуло и придется хвататься за что-то новое. И пусть это был всего-навсего перечень имен — Адам, Сиф, Енос, Каин, Малелеил, Иаред. Понимать было не обязательно, только запоминать. Нам постоянно внушалось различие между раем и адом, а на стене столовой, за головой дедушки, висело как подтверждение и предупреждение аллегорическое изображение «Правого пути», огненный глаз господа, горящий над нами.
Первый раз, когда это случилось, дедушка обрушился на меня без предупреждения. Как всегда по воскресеньям, я сидел за столом, погрузившись в медленное течение его громкой речи, в предвосхищении теплой постели, и вдруг, все еще держа книгу открытой, он поглядел на меня поверх очков и строго спросил:
— Ну, Мартин, ты что-нибудь запомнил?
— Что, дедушка?
— Расскажи мне, что ты сегодня услышал.
Отец попробовал было вмешаться:
— Ты же не предупредил его.
— А тебя не спрашивают. Ну так как, Мартин?
Я поднял голову и увидел ровно горящую лампу и взирающий на меня сверху глаз господень.
— Ты ничего не запомнил?
Я задрожал. Впервые в жизни я ощутил, что меня вовлекают в мир взрослых, безжалостный и страшный, и вся прежняя уверенность внезапно покинула меня.
— Ты прогневил господа, Мартин.
Я судорожно сглотнул.
— Надеюсь, завтра у тебя получится лучше. А теперь помолимся.
Мы отодвинули стулья. Я прижал лицо к кожаной обивке сиденья, и на меня покатились мощные волны дедушкиной молитвы. Но в этом не было больше ничего умиротворяющего, то был голос судьи, приговаривавшего меня к вечным мукам.
На следующий вечер я почти не притронулся к еде. Едва дедушка взял Библию, как я покрылся потом, пытаясь запомнить то одну фразу, то другую, но они ускользали от меня, словно обломки Ноева ковчега, уносимые волнами. Одна за другой они шли ко дну прежде, чем я успевал схватиться за них, пока я наконец не вцепился в одну строчку и уже не выпускал ее. И когда он отложил Библию и взглянул на меня, я, запинаясь, проговорил:
— А любви не имею… дедушка.
Я был спасен. Но в ту ночь мне снились кошмары, сменявшие друг друга, я то и дело просыпался, выкрикивая эти слова, огнем горевшие в моем сознании.
И именно эта фраза среди всех моих мрачных воспоминаний всплыла у меня в голове, когда в то утро я услышал сильный, но неглубокий голос матери, как обычно поющей свой утренний псалом. А любви не имею… Слова были столь явственны, что все мертвецы сразу же вернулись ко мне: дедушка, бабушка, да и отец.
Я плохо спал из-за усталости. К тому же мне не удавалось отделаться от мыслей о Бернарде. Да и ровное, спокойное дыхание Луи мешало. Было еще темно, когда я услышал первые шаги слуг в кухне, а на дворе закричали петухи. Я повернулся на бок и попытался заснуть. До завтрака оставалось еще часа два или даже больше. Но, услышав голос матери, я понял, что спать уже не смогу.
В мрачном звучании ее голоса из темноты было нечто мучительно ликующее и одновременно глубоко утешающее — уверенностью и неуязвимостью, возвещавшими о ее способности выстоять, несмотря на болезни и одиночество, да и на самое смерть. Я слушал, опершись на подушку, и думал о матери — о том, как она многие годы поддерживала единство семьи, ни словом не выказав ни озлобления, ни упрека по поводу милого, но непрактичного образа жизни отца. Она всегда была крепкой, сильной и более уверенной в себе, чем он, но заботливо старалась держаться в тени и скрывать свое превосходство. Она брала верх над ним незаметно, хотя он и не раз повергал ее в отчаяние. Мать верховодила столь ненавязчиво, что это стало ясно лишь после отцовской смерти, когда она, как дерево, внезапно обретшее новые ветви и листья, вдруг начала расти и цвести, словно добравшись мощными корнями до глубинных, плодородных слоев почвы.
После похорон я предложил ей переехать к нам, думая, что она охотно расстанется с фермой, устав от долгих лет бесплодной борьбы. Но я не принял в расчет ее упорства. Вначале она ответила довольно уклончиво.
— Дай мне немного прийти в себя, — сказала она. — Думаю, я справлюсь.
Я оставил ее в покое, полагая, что речь идет о нескольких месяцах. Но она все упрямилась и упрямилась, и наконец я понял, что одинокая жизнь на ферме стала для нее необходима.
В общем, мать расцвела. Мать, но не ферма. Дела на ферме уже много лет шли все хуже и хуже, и несколько раз мне приходилось вкладывать значительную сумму, чтобы избежать разорения. Малоприятная обязанность, тем более что мать сама ни о чем не просила. Пока был жив отец, она всегда обращалась ко мне, если требовалась помощь. («Ты не думай, сынок, ему вовсе не стыдно попросить у тебя. Просто он сам не понимает, когда и что нужно».) Теперь же, во время засухи, помощь была особенно нужна, но она ни разу не заикнулась об этом. Если бы я сам время от времени не интересовался, как обстоят дела, бог весть что с нею было бы.
Как-то раз в субботу на ферме случилось происшествие, едва не закончившееся трагически (я узнал об этом лишь несколько месяцев спустя, и то случайно): все работники напились и не вышли на работу. Но вместо того, чтобы смириться с неизбежным, как поступил бы на ее месте едва ли не каждый, мать взяла из конюшни плеть и направилась к хижинам, на полмили вверх по склону холма. Придя туда, она принялась хлестать всех, кто подвернулся ей под руку. Один из работников ухватился за плеть и вырвал ее у матери. Затем потянулся к ножу. Внезапно вокруг наступила мертвая тишина, даже женщины в хижинах перестали выть и орать. Он подошел ближе.