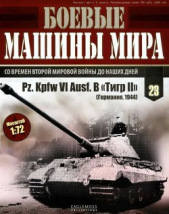Лунный тигр

Лунный тигр читать книгу онлайн
Клуадия, в прошлом «экстремальная» журналистка, побывавшая не в одной горячей точке, приближаясь к жизненному финалу, пересказывает дочери историю любви своей юности. Встретившись в Египте в разгар Второй мировой войны, Клаудия и ее возлюбленный Том живут одним днем. Испытывая к друг другу истинную любовь, они в то же время не находят себе места от ревности, и постепенно их отношения подходят к опасной грани. Вскоре сама жизнь разлучает эту красивую пару навсегда — Том не вернулся из очередной вылазки на линию фронта. Единственным свидетелем жестоко прерванной страсти становится для Клаудии «лунный тигр» — тлеющая спираль для защиты от тропических насекомых. Клаудия безутешна… Но до конца жизни в своих воспоминаниях она всё та же рыжая бестия, сексуальная и бесстрашная влюбленная женщина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лайза не любит говорить о переменах. Она спрашивает о Лазло.
— Лазло такой же, как всегда. Ты не можешь не признать, что в последовательности ему не откажешь.
Лайза вежливо кивает.
— Знаешь, я сожалею, — говорит Клаудия.
— Сожалеешь о чем? — осторожно спрашивает Лайза.
— Сожалею о том, что была неправильной матерью.
— О… — Лайза подыскивает ответ, — ну… я не знаю… не то чтобы неправильной… Ты была такая, какая ты есть.
— Мы все такие, какие есть, — отвечает Клаудия, — но это необходимо преодолевать. По общепринятым стандартам я в этом не преуспела. Поэтому я прошу прощения. Не то чтобы от этого есть какая-то польза… просто я хотела тебе это сказать.
— Спасибо, — наконец отвечает Лайза, сама не зная, что имеет в виду. Она бы предпочла, чтобы Клаудия не говорила того, что сказала. Теперь эти слова навсегда останутся с ней и только все усложнят.
Я никогда не думала, что увижу, как Лайза станет взрослой. В годы ее детства я была уверена, что вот-вот разразится ядерная война. Мир мог взлететь на воздух в любую минуту — в Корее, в Лаосе, на Кубе, во Вьетнаме, — и я ждала этого. Поэтому существование Лайзы наполняло меня ужасом. Возможная участь всего человечества для меня сосредоточилась в Лайзе, ее крошечных ручках и ножках, в ее невинных глазках, в ее простых желаниях. Возможно, я была неправильная мать, но все же я была мать, и при мысли о том, что Лайзе угрожает опасность, я испытывала страх и животную ярость. Я никогда бы не призналась в этих потаенных страхах. Для всех я была разумной и компетентной — я спорила о достоинствах и недостатках изолированности, я писала статьи, я участвовала в митингах и демонстрациях, если их цели меня устраивали. Но я навсегда запомнила тянущее ощущение тошноты и холода в желудке, которое испытывала в течение девяти дней Карибского кризиса, да и не раз после этого. Бывали дни, когда я не могла заставить себя включить радио или раскрыть газету, словно незнание могло оградить меня от реальности.
Лайза выросла. Выросли ее сыновья. Время от времени я еще чувствую этот тянущий холод, но не так, как раньше. Я уже не отдергиваю руку от газеты. Почему бы это? Мир не стал безопаснее, чем был двадцать лет назад. Но мы все еще живы, чудовище все еще в клетке, и с каждым годом крепнет надежда, что, авось, там оно и останется. Нельзя жить в постоянном предчувствии гибели — это иссушает душу. Монахи Линдисфарна, должно быть, насвистывали во время работы, когда уставали смотреть на море; и в осажденных городах люди занимались любовью.
Мы ждали конца света, Библия приучила нас к этому. Мы ждали уничтожения и спасения — возможно, и того, и другого. Вера милленариев [120] стара, как мир, апокалипсис всегда был у нас под рукой. Люди тряслись в своих кроватях в ожидании тысячного года, съеживались при появлении кометы, падали на колени при затмениях. Наши сегодняшние страхи на первый взгляд более рациональны, но происхождение их перечеркнуть нельзя. Теория о том, что мир вечен, — недавняя, и, очевидно, слишком недавняя, чтобы иметь много последователей. Бытие мира — такая важная вещь, так соблазнительно думать, что рано или поздно оно изменится. В 1941 году в Иерусалиме я останавливалась в маленьком пансионе, который держали американцы, адвентисты седьмого дня. Эти пожилые люди в двадцатые годы продали все, что нажили, в Айове и Небраске и приехали на Святую землю, чтобы здесь дождаться второго пришествия, назначенного на 1933-й. Второе пришествие так и не состоялось, сбережения подошли к концу, адвентисты по-прежнему жили на Святой земле и сделали самое разумное, что могли, открыв маленькую гостиницу. Это было восхитительное местечко с тенистым двориком, в котором среди кустов розмарина и горшков с геранью прогуливались черепахи.
Многие годы мы с Гордоном спорили о разоружении — чаще, чем о чем-либо другом. Я была членом Движения за ядерное разоружение, а он — нет; его прагматизм излечивал мой пессимизм; он оперировал аргументами и цифрами, в то время как я размахивала эмоциями и уязвимыми догмами. Теперь я могу это признать. В последний раз, когда мы были вместе — в лондонском такси, за два дня до его смерти, — он посмотрел на заголовки вечерней газеты, лежавшей у него на коленях, и сказал: «Неприятнее всего выпасть из сюжета. Хотел бы я знать развязку».
Кто-то, а Гордон знал о развязках немало. Время от времени он сам их придумывал. Вносить лепту в сюжеты — привилегия экономистов: крестьяне в Замбии, лавочники в Боготе, фабричные рабочие в Хаддерсфилде так или иначе испытали на себе результаты профессиональной деятельности Гордона.
За неделю до смерти Гордон давал показания Королевской комиссии по радиовещанию, зная, что итогового отчета уже не увидит. Мы с Сильвией привезли его туда в такси. Сильвия, с красными от слез глазами, облепленная обрывками мокрых носовых платков, пищала и кудахтала; Гордон, накачанный лекарствами, облепленный капельницами, нетерпеливо брюзжал. Доктора сказали: «Пусть едет, если хочет». Я согласилась. Он дал показания, с трудом забрался в другое такси и стал рассуждать о предстоящих выборах. Он явно провоцировал меня, и я приняла бой, зная, что не имею права поступить иначе. Мы поспорили. Сильвия разрыдалась.
Она сидит напротив Гордона и Клаудии на откидном сиденье. Он не должен был ехать, эти глупые врачи ничего не понимают, они не должны сидеть в такси, с трудом продирающемся сквозь мрачный декабрьский Лондон. Из Гордона при каждом вдохе вырывается хрип, а к ноге прикреплены все эти трубки, на которые она не может смотреть без тошноты. И он все говорит, говорит, а ведь это вредно — так волновался из-за каких-то дурацких выборов, хотя кому сейчас есть дело до выборов? Ведь Гордон… К тому времени Гордон…
Уставившись в окно, Сильвия кусает губы.
Она будет храброй-храброй. Она не сломается. Когда это случится. Она будет храброй и разумной, устроит все, что надо устроить, сохранив спокойствие и достоинство.
И вслед за этим у нее появляются мысли, которых не должно быть, она это знает, но не может их отринуть… Мысли о том, что будет после того, как она продаст дом, ей ведь никогда по-настоящему не нравился северный Оксфорд, можно ведь подобрать что-то более сельское, не деревню, конечно, это слишком хлопотно, но какой-нибудь городок, где бывают ярмарки, где легко ладить с людьми… и ей больше не нужно будет ездить в Штаты. Можно даже подрабатывать немного в каком-нибудь благотворительном магазинчике, просто чтобы чем-то заняться…
«Вздор! — говорит Клаудия. — Просто вздор!» И Сильвия выпадает из потока мыслей и оказывается в реальности. В реальности, где не на шутку спорят Гордон и Клаудия. Спорят, бранятся, как в прежние времена: но послушай, ты ведь не хочешь сказать, что… ты так говоришь только потому, что ничего не знаешь… дай мне закончить, не перебивай… ты просто неправа, Клаудия, вот и все.
Клаудия! Как она может! Спорить с ним, когда он так болен. Перебивать. Повышать голос. Как это на нее похоже. Как это гадко. Когда он… когда он умирает.
Слезы застилают глаза, вот-вот польются, она отворачивается к окну, торопливо ищет платок — и видит в оконном стекле, поверх витрин и тротуаров, свое лицо, круглое, розовое, старое лицо с опухшими глазами и щеками, испещренными сосудами.
«Вздор!» — говорит Клаудия, и это звучит резко, звучит так словно она хочет сказать именно это. Она встречается глазами с Гордоном и понимает, что он возмущен, но ему хочется говорить, и они будут говорить, будут перебивать, но за всем этим оба услышат нечто другое.
Я люблю тебя. Всегда любила. Больше, чем любого другого человека, за одним только исключением. Значение этого слова чересчур широко, что только не называют любовью — любовь к детям, к друзьям, к Богу, плотскую любовь, и корыстолюбие, и святость. Мне нет нужды говорить тебе об этом, как и тебе нет нужды объяснять это мне. Я даже редко об этом задумывалась. Ты был моим alter ego, а я — твоим. А теперь я останусь одна, не понимая, что мне делать дальше.