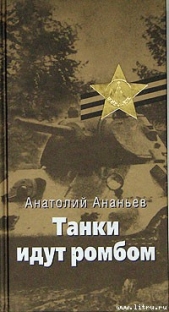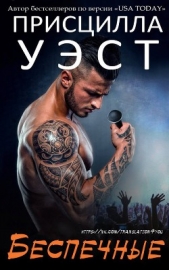Все поправимо: хроники частной жизни

Все поправимо: хроники частной жизни читать книгу онлайн
Герой романа Александра Кабакова — зрелый человек, заново переживающий всю свою жизнь: от сталинского детства в маленьком городке и оттепельной (стиляжьей) юности в Москве до наших дней, где сладость свободы тесно переплелась с разочарованием, ложью, порушенной дружбой и горечью измен…
Роман удостоен премии «Большая книга».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава третья. Семья
— Ты совершенно потерял совесть, — сказала мать. — Почему ты можешь развлекаться, пьянствовать со своим Белоцерковским, а мы с Ниной должны платить за твои удовольствия бессонными ночами?
Мать терпеть не могла Женьку и считала, что именно он оказывает дурное влияние на сына. Когда-то, в школьные времена, она считала, что дурно влияет Киреев, но теперь с ним примирилась и всю неприязнь перенесла на Женьку. Возможно, это объяснялось тем, что его она никогда не видела, а Киреев был знаком, остался в ее памяти вечно сопливым красноносым мальчишкой, и в его опасность она поверить не могла, а Женька был непонятен и потому вредоносен. Про Головачева он инстинктивно старался вообще никогда не упоминать дома, поэтому Витькино имя в скандалах не фигурировало.
Нина в разговоре не участвовала, сидела, закрывшись, в дядипетиной комнате. Это означало, что ей и без выяснения отношений все ясно и она просто стесняется при свекрови сказать правду.
— Мам, — он говорил убедительно, но большого старания не вкладывал, — мам, ну какое пьянство? Ну, выпили немного там, на Генкиной даче, если совсем не пить, околеть можно, потом засиделись с курсовой, в четверг сдавать, а у нас еще конь не валялся, а потом электрички…
Генкина дача уже не раз возникала в его легендах, и эти повторения, на его взгляд, придавали рассказам убедительности — ну, привыкли мальчики заниматься на даче, где спокойно и ничто не отвлекает… Дача Генки Александрова, профессорского сына и внука академика, серьезного отличника с уже очевидным научным будущим, действительно существовала, но он там был только однажды, на дне рождения со всей группой, а с самим Генкой не то чтобы не дружил, но и разговаривал-то редко — слишком разные были интересы. Поэтому он и был удобен для вранья — существовал, но вдалеке.
— Я больше не хочу с тобой разговаривать, — сказала мать. — В конце концов ты вполне взрослый, женатый человек, и тебя самого должны беспокоить твои отношения с Ниной. Что ты обо мне никогда не думаешь, мне уже давно ясно, и я надеюсь только на одно…
Он быстро встал, обнял мать и осторожно прикрыл ее рот рукой, чтобы не слышать то, что должно было последовать. Мать не отстранилась, но и не прижалась к нему, и не поцеловала едва ощутимо его ладонь, как бывало еще недавно. Она просто замолчала и сидела неподвижно, закрыв обычно широко раскрытые глаза, сгорбившись в своем кресле у окна.
В дядипетиной комнате, которая теперь была их с Ниной спальней, но по-прежнему называлась дядипетиной, он увидел наконец после двухдневной разлуки жену. Нина лежала в постели, повернувшись лицом к стене и накрывшись почти с головой толстым стеганым китайским одеялом в красивом, с прошвами пододеяльнике, подаренном на свадьбу Сафидуллиными. Когда он вошел, Нина не пошевелилась.
— Нинк, ну… Кончай, серьезно… — Он присел на край тахты и потянул угол одеяла, но она вцепилась, потянула к себе, сползла с подушки и зарылась под одеяло еще глубже. — Ну, перестань ты… Я, честное слово, не мог позвонить, там все автоматы сломаны…
— Оставь меня в покое, я не спала всю ночь, — неразборчиво сказала она из-под одеяла. — Иди, гуляй дальше, еще не всех московских проституток пере…
Он ударил кулаком по подушке рядом с ее головой, чтобы она замолчала. Он не переносил, когда она материлась, а в последнее время это случалось в скандалах все чаще.
Она отшвырнула одеяло и села. Он увидел, что она совершенно одета — в таком же, как у всех модных женщин, шерстяном сарафане на молнии с большим кольцом замка и в тонком свитере с высоким воротом. И сшит сарафан был у той же портнихи, в Сокольниках, где шили Вика и Лиля.
— Я нашла телефон Генки и позвонила ему, — сказала Нина, глядя ему прямо в глаза, и он, конечно, отвел взгляд. Лицо его жены опухло от слез, прекрасных ее светло-коричневых глаз почти не было видно за набрякшими, черными от размазанных теней веками. Ему стало жалко ее, но за то, что было минувшей ночью, он не стыдился, а просто жалел Нину, как жалел бы, если б она ушиблась или обожглась.
Нина вылезла из постели, и он увидел, что она в толстых шерстяных норвежских чулках, которые он купил ей в прошлом месяце у одной знакомой девчонки, которую постоянно можно было встретить в Столешниковом с сумкой женского барахла в руках. Нина стояла перед ним, чуть расставив ноги и сложив руки на груди, в скандальной позе она была очень похожа на свою мать. Она не надела тапочек, и вид ее маленьких ступней в темных чулках, выделяющихся на светлом паркете, совсем расстроил его.
— Я уезжаю в Одессу, — сказала Нина, и он тут же увидел ее большой чемодан, стоявший на столе, с которого были сброшены на пол книги и конспекты. Чемодан был раскрыт, в нем высокой кучей громоздились вещи, и было понятно, что закрыть чемодан невозможно.
Он начал что-то плести о том, что на самом деле просто пили у Женьки, но он не хотел говорить об этом матери, которая Белого не переваривает, выпили, конечно, много, и он неожиданно заснул, а потом, когда проснулся, было уже поздно, а все продолжали пить, и он решил не звонить ночью, потому что тоже выпил еще и был уже пьяный, иначе бы обязательно позвонил, были только ребята, отмечали уход Киреева от родителей, он очень виноват…
С последними словами он потянулся к ней, все еще стоявшей перед ним в скандальной позе, чтобы обнять ее и потащить в постель, где все решилось бы просто, но она отскочила к столу, наклонилась, взяла с полу огромный том «Введения в теорию функций комплексного переменного» Федосеева и изо всех сил запустила книгой в него. Кирпич просвистел мимо его виска, врезался в стену, порвав обои и вывернув из-под них старые газеты, и развалился на две части, теряя отдельные страницы. Страницы с конформными отображениями полетели по комнате. Он вскочил с тахты, подбежал к ней и обнял, прижав ее руки к телу. Она выворачивалась и шипела, она плюнула ему в лицо, и брызги слюны долетели, она заплакала и ослабела.
— Дура, — сказал он, — ты что, с ума сошла? Попала б в висок — убила бы…
— Я тебя все равно убью, — сказала она, — сволочь, бабник, блядун…
А он уже расстегивал на ней сарафан, стаскивал с себя одежду и при этом, не выпуская ее, двигался, будто в танце, к постели, в ее трусах лопнула резинка, и он стряхнул их на пол, сбросил на пол и одеяло и, не разжимая рук, повалился на простыню вместе с нею, она помогла ему, он застонал — ее волосок попал и резал — и, не обращая ни на что внимания, влепился в нее до конца, до упора, приподнялся на руках, прогнув спину и упершись взглядом в порванные обои, но уже не видя их, и изо всех сил ударил ее бедрами и ударил снова, и она двинулась ему навстречу, словно пытаясь сбросить его, глаза ее были закрыты, веки в черно-зеленых разводах краски вздрагивали при каждом ударе, а он все колотил, словно взбесившаяся машина, потом он опустился, оперся на локти, подсунул ладони под ее поясницу и приподнял ее, так что проник еще глубже, она тихо завыла, вырвалась, соскользнула, перевернулась спиной вверх и встала на четвереньки, вытянув вперед руки, ухватившись за спинку тахты, прижавшись щекой к подушке, и он почти сразу попал снова, помогая себе одной рукой, и крепко ухватил ее за верх бедер, за те места, где тело резко расширялось от талии, и снова принялся колотиться об нее, толкая ее вперед, а она упиралась изо всех сил в спинку тахты и двигалась назад и вдруг, едва не искалечив его, снова перевернулась на спину, не дав ему выйти, он повалился на нее, придавил, продолжая проникать раз за разом все легче и быстрее, быстрее, быстрее, и, наконец, его подбросила судорога, он затрясся, провисел секунду в воздухе, опираясь на полностью распрямленные руки, — и рухнул на нее, заплакав почти в голос.
Сколько прошло времени, они не знали. Он еле встал, прошлепал к столу, где оставил свой золоченый плоский «Полет», купленный наконец в прошлом месяце дефицит, — он успел снять часы, чтобы не оцарапать ее пряжкой ремешка. Оказалось, что время идет к ужину. Нина надела халат, пошла на кухню готовить, спустя несколько минут вышел в большую комнату и он. Мать сидела у окна, за которым было черное небо, чуть отсвечивающее золотом от столпившихся у нижнего края рамы городских огней, и смотрела в темноту. Когда он вышел, мать не обернулась.