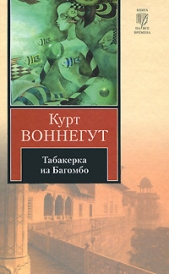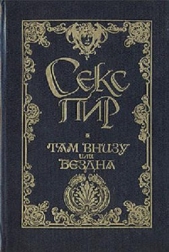Манящая бездна ада. Повести и рассказы
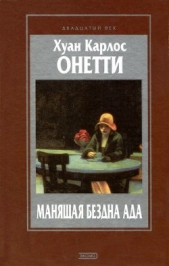
Манящая бездна ада. Повести и рассказы читать книгу онлайн
Уругвайский прозаик Хуан Карлос Онетти (1908–1994) — один из крупнейших писателей XX века, его нередко называют «певцом одиночества». Х.-К. Онетти создал свой неповторимый мир, частью которого является не существующий в реальности город Санта-Мария, и населил его героями, нередко переходящими из книги в книгу.
В сборник признанного мастера латиноамериканской прозы вошли повести и рассказы, в большинстве своем на русский язык не переводившиеся.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, около двух лет. Однако мне кажется, что не этому… Я очень хорошо к нему отношусь, но он трудный тип.
— Очень может быть, я в этом совершенно уверен. Отчасти даже неврастеник, — радостно закивал я: «Попал». — Знаете, здесь есть один момент, который меня особенно интересует. Одна деталь, может, даже просто хитрость, одна метаморфоза. Я говорю об известной вам истории Риты и козла.
Он наклонился над столом, чтобы спрятать от меня свои глаза и улыбку. Сквозь окошки день казался сумрачным; тускло серело громадное пустое пространство внутри рынка, медлительно плыл влажный воздух. Моргая, он выпрямился и насторожился.
— Я знаю эту историю. Но я не думал, что ее знаете вы. Вам, должно быть, рассказал Хорхе. Ну и как же он ее вам рассказал?
Я ему объяснил только то, во что еще сам верил. Что одна женщина по имени Рита под всякими лживыми предлогами выпрашивала милостыню у входа на вокзал и что ее сопровождал козел, которого ей в результате долгих раздумий эстетического порядка всучил человек, именуемый Амбросио. Он воспроизвел слюнявый смешок папаши и тряхнул головой, чтобы расшевелить память.
— Все это так. Тем не менее кое-чего Хорхе не знает. — Он насупился и, казалось, не выражал желания говорить на эту тему.
Я колебался, подбирая к нему ключи.
— Меня интересует одна совершенно элементарная вещь, — сказал я, немного помолчав. — Не вызывает сомнений тот факт, что некая женщина, заболев, возвратилась с козлом в Санта-Марию и здесь умерла на одном из ранчо на берегу. И только хотелось бы знать, была ли это Рита или кто-то другой.
Он придвинулся ко мне с недоверчивым и удивленным выражением, что-то туго и лихорадочно соображая.
— Была ли это Рита? Ну, разумеется, она. Ведь у нее уже была чахотка, когда я ее встретил на вокзале. И она не берегла себя, ей только бы козел был сыт. К тому же подумывала о самоубийстве. Она была не в себе, и самым большим счастьем было для нее, если козел лизал соль прямо у нее из рук.
— Это мне известно, — сказал я и многозначительно поднял палец, хоть этот жест не отличался смыслом. — А не было ли там еще двоюродной сестры? Подумайте. Ритиной родственницы, которая будто бы приехала в Буэнос-Айрес, чтобы вместо нее стать рабыней у козла, а затем возвратилась в Санта-Марию вместе с животным, а может, гонимая им, с тем чтобы в родных краях встретить смерть и обрести покой. Подумайте и ответьте мне.
Он осторожно зажег сигарету перед самым моим лицом, и струйка дыма смягчила презрительное и мучительно-напряженное выражение его лица. Он мне не верил. Я ждал, пока возмущение выведет его из замешательства. Он выпрямился и, совладав с собой, отрицательно замотал головой.
— Так вот как Хорхе вам это рассказал? Впрочем, меня это не удивляет. Потому что он вел себя как сукин сын. И что же он сказал вам обо мне?
— Почти ничего. Вы появляетесь только в начале истории.
Улыбка, которую он нехотя изобразил, была такой отвратительной и такой злобной, что показалась мне позаимствованной не столько у отца, сколько у Перотти-деда.
— Давайте все по очереди, — начал он. — Я встретил Риту и отправился спать с ней. К ней домой, ясное дело, потому что куда еще можно было деться с козлом. Я ее встретил, мы пошли, и я ей заплатил. Она спала со всеми; козел и выдумка про поездку были всего лишь отговоркой на случай, если придерется полицейский. Ведь одно дело, если ее заберут за мошенничество, и совсем другое — за приставание к мужчинам.
В мягкой полутьме опустевшего рынка он казался пунцовым, оттого что сдерживал охватившее его возбуждение и обуздывал свою ненависть, с тем чтобы в нужный момент дать ей выход.
— Да, — тихо согласился я. — Версия Хорхе Малабии в общем-то не противоречит сказанному вами. Но меня интересует двоюродная сестра. Вы уверены в том, что это была Рита, а не она?
— Двоюродная сестра? Она появилась в самом конце, когда Рита была уже в безнадежном состоянии. Ее звали Ихиния, это была темноволосая толстушка, впрочем очень привлекательная. Несколько дней она изображала сиделку, ухаживая за Ритой и козлом, а может быть, и за Хорхе.
У Хорхе в это время было какое-то загадочное недомогание. Я не знаю, говорил ли он вам, что пропустил целый год занятий и что родители считают, будто он на третьем курсе, когда он еще не закончил и второго. Двоюродная-то сестра, должно быть, шляется по танцевальным залам Палермо или у кого-то на содержании, потому что она действительно хороша собой, если ее помыть. Несколько дней она строила из себя святую, но очень скоро почуяла своим собачьим нюхом, что к чему, и исчезла. Однажды она приезжала в гости на машине, взятой напрокат вместе с шофером. Привезла кучу свертков с едой и подарками, и кто его знает, не приезжала ли она только затем, чтобы покрасоваться перед Ритой.
Из тщеславия, в отместку, и не Рите, ведь Рита олицетворяла для нее Санта-Марию, детство и нищету; а может, из жалости, чтобы показать и даже доказать, что в Буэнос-Айресе вполне возможно, да и не так уж трудно покончить с этим нищенским существованием.
Но Рите все это было уже совершенно ни к чему. В тот вечер, это была суббота, я зашел к ним, хотя бывал там нечасто. Я приходил главным образом затем, чтобы обругать Хорхе или, присев на краешек кровати, просто посмотреть на него. Он знал все, что я думаю и могу ему сказать. Рита встретила сестрицу, не понимая ничего. Она уже была тяжело больна и бредила наяву. Должно быть, Рите почудилось, что ей рассказывают волшебную сказку, если ей вообще когда-нибудь ее рассказывали. Одеяние Ихинии, ее перчатки и шляпа, а также свертки с едой, которые она привезла, были для сытых, а не для голодных. Я уж не говорю о машине и шофере в форменной одежде. Она села в эту машину, и они укатили. Вот как это было, а тому, кто скажет, что не так, я набью морду: Ихиния — шлюха высокого полета, и, думаю, ее еще надолго хватит. Она прожила у них всего несколько дней, может, две недели, ухаживая за всеми троими — за ней, за ним и за вонючим козлом. Когда они забывали про соль, козел упрямо лез лизать им руки. Двадцать раз я говорил, сначала в шутку, потом всерьез, потом снова в шутку, чтобы они его прирезали и съели. Когда я в первый раз сказал это всерьез, Рита набросилась на меня с ножом. А он, Хорхе, валялся сутками на кровати, руки за голову, уставившись в потолок, в то время как женщина умирала от кашля и голода. Вот так, только Рита не выдержала. Она приехала с козлом в Санта-Марию в то лето, когда умер мой отец, а когда Хорхе явился на каникулы, то он видел ее в живых всего лишь дня два и потом оплатил похороны. Как господин. Жаль, что она умерла, но виной тому он. Я так и сказал ему и могу повторить. Потому что он, мой друг, без всякой нужды, шутки ради стал жить на ее средства, на то, что она с козлом зарабатывала подаянием, обманом и проституцией. Поэтому ему уже не надо было платить за пансион, он жил в грязной комнате, принадлежащей ей или, вернее, им. На те деньги, что посылал ему отец, он вполне прилично мог бы прокормить Риту и, разумеется, козла; и может статься, она бы выздоровела. Но он дни и ночи возлежал на кровати, созерцая узоры грязи на потолке, в ожидании того, когда она возвратится с промысла, с бутылкой вина и промасленным свертком с едой.
Примерно раз в месяц они переезжали. Хорхе обо всем договорился с владельцем газетного киоска на площади Конституции; он платил ему два песо за то, что тот приглядывал за козлом или привязывал его к дереву, пока она отправлялась с очередным мужчиной. «Да ты просто сутенер», — говорил я ему в те редкие случаи, когда навещал их. И совершенно спокойно могу сказать ему это при вас. А он, грязный и обросший, лежа на кровати, повторял вместо «здравствуй», когда я входил или несколько позже, после того как я наговорю ему самых оскорбительных вещей, которых ни один мужчина, каким бы молодым он ни был, вынести не в состоянии: «У тебя есть сигареты?» Вы себе этого не представляете и не поверите мне. Но Хорхе, ничего другого быть не может, я в этом убежден, уверовал в то, что он — Амбросио, тот человек, который придумал козла. А так как Амбросио в течение нескольких месяцев эксплуатировал Риту, до тех пор, пока в одно прекрасное утро или вечер с шутовским возгласом «Эврика» не изобрел козла, то и Хорхе считал своим долгом делать то же самое: бездельничать, жить чужим трудом, окаменело созерцать потолок, пока с него ему на голову не свалится такое же чудо. Я не знаю, какое чудо, мне ничего подходящего не придумать, и у него тоже ничего не выходило; может, он ждал голубку, которая сядет ему на плечо, змею, что обовьется вокруг руки, или тигра, злобно рычащего. А так как за жилье он не платил и в деньгах никакой потребности не испытывал, то чеки и письма, приходившие в пансион, где я продолжал жить, я должен был относить в одну из тех кирпичных или глиняных построек, в которых он сосредоточенно изучал проблемы развития паутины на потолке. «У тебя есть сигареты?» Думаю, что с такими деньгами он мог бы спасти Риту или хотя бы поддержать ее на какое-то время. Но все это был сплошной фарс, настолько же глупый, насколько и мерзкий. И он, Хорхе, хотя и преобразившийся в Амбросио, которого никогда не видел, знал это. Он был уверен, что в этой жизни его уже ничто не ждет, и он отдавал себе отчет в том, что женщина умирает. Потому-то он и решил похоронить ее двоюродную сестру, Ихинию, ведь под конец, после года такой разудалой, глупой и извращенной жизни, шутка стала ему выходить боком, дело оказалось весьма серьезным, и он не в состоянии был вынести угрызений совести. А эту песню я слышал давным-давно, еще до Риты и Буэнос-Айреса, когда мы до рассвета спорили обо всем на свете: «Я никогда ни в чем не раскаиваюсь, потому что любое мое действие, если оно вообще исполнимо, лежит в границах человеческого». Таков был его девиз. Он написал его на листе белого картона и повесил в пансионе над своей кроватью. Я уже выучил все это как стихи и потешался над ним, повторяя их, когда видел, что его удерживают от чего-то соображения нравственного порядка. Говорить-то ведь всем легко.